
Какие фильмы могли бы понравиться Маяковскому...
Написал заглавие - и тут же оробел: какое же я имею право брать на себя ответственность за вкус поэта... Но я все же решил не отступать и хочу назвать эти строки точнее: "Какие фильмы я бы хотел, чтобы они пришлись по душе Маяковскому?"
А ведь такие появились; и мне стало настолько обидно, что он их не увидит, что я решил рассказать хотя бы о двух из них, поскольку сегодня продолжается несмолкаемый спор о традициях поэта и я рискую вступить в него, защищая свое понимание "маяковского кино".
Позволю себе говорить не о хрестоматийном - о любви Маяковского к хронике и мультипликации,- а о том, что известно меньше и о чем правильно напомнил историк кино в первое десятилетие со дня смерти поэта. В статье "Неутомимый борец" Н. А. Лебедев писал:
"Распространено мнение, что Маяковский был против "игрового" художественного фильма. Это недоразумение вызвано тем, что поэт полемически противопоставлял хорошую хронику плохим "игровым" фильмам. Маяковский высоко ценил художественную кинематографию и боролся за ее развитие... Он восхищался такими фильмами, как "Наше гостеприимство", "Парижанка", "Золотая горячка".
Все написанные им сценарии рассчитаны на постановку с актерами. Но он был за содержательные и остроумные "игровые" фильмы, против "захватывающих пьес с красивыми барынями"... Он боролся за тесную связь сценариста с кинопроизводством. Он считал, что общий язык между драматургом и коллективом, осуществляющим его замысел, можно найти только при такой связи"*.
* ("Кино", 1940, № 16, 11 апр., с. 3.)
Вот почему я прежде всего жалею, что был лишен возможности познакомить (а может быть, и сдружить) Маяковского с кинодраматургом, сочинявшим сценарии, которые, по моему мнению, могли бы понравиться поэту. Но самое удивительное, что Маяковский неоднократно видел этого автора, но ему (как, впрочем, и всем нам) не могло тогда прийти в голову, что именно он напишет такие произведения, как "Коммунист", "Твой современник", "Начало" и трилогия о Ленине.
Действительно, трудно было вообразить, что молодой пианист Евгений Габрилович, с таким блеском и импровизационной легкостью аккомпанировавший в течение целых пяти лет в джазе, сопровождавшем спектакль Вс. Мейерхольда "Даешь Европу!" (по мотивам романа И. Эренбурга), забросит эту профессию навсегда, сначала ради журналистики и прозы, а затем и кино.
Впрочем, я зря забежал вперед - этот период работы в театре был нужен драматургу, и он сам написал о нем в новелле "Мюрат", и я не могу удержаться от того, чтобы познакомить вас хотя бы с одним коротким отрывком, столь характерным для той эпохи:
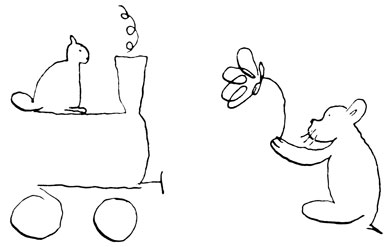
Рисунки В. Маяковского на полях писем
"Летом 1926 года я ездил из города в город с театром Мейерхольда... Я играл на рояле в джаз-банде в пьесе "Д. Е.". По мысли Всеволода Эмильевича, мы обязаны были греметь в первом акте, изображавшем палубу парохода. Актеры ругали нас. Они играли американских миллиардеров. Жара стояла нестерпимая. Но актеры надевали толщинки и шубы: каждый из актеров мечтал, что публика рассмеется или просто прослезится при виде его. Однако мучения актеров пропадали даром: мы - джаз-банд - не давали публике ни смеяться, ни плакать. Мы били в барабаны, прыгали и пели...
Газеты ругали джаз-банд... Рецензенты писали: "Уберите их или усадите их за сцену".
Огорченные, мы шли к Мейерхольду. Великий Всеволод сидел в кабинете. Лаборанты окружали его. Они подсовывали ему бланки с выговорами и приказами. Мы прислонялись к притолоке... Всеволод поднимал наконец глаза. Он видел нас, прижатых к стене, он видел в руках у нас газеты, где шельмовалось бедствие, имя которому всем известно.
Он ударял кулаком по столу.
- Греметь!- приказывал он.
Мы выходили из кабинета просветленные. Вечером мы гремели..."*.
* (Габрилович Е. И. Прощание. М., "Сов. лит.", 1934, с. 18-19.)
Так иронически заканчивается этот прелестный и правдивый рассказ. Он мог бы иметь и продолжение, потому что Габрилович не только гремел на рояле - он учился искусству на репетициях Мастера и яростно защищал его позиции на страницах маленького полемического журнала "Афиша ТИМ": там он впервые оттачивал свое журналистское ремесло, сражаясь с теориями Таирова, которые публиковались на страницах другого такого же небольшого издания, "Семь дней МКТ", выходившего под эгидой московского Камерного театра.
Затем наступило то, что описал опять-таки сам Габрилович в той же книжке 1933 года "Прощание" - рассказал доверительно и безжалостно:
"Потом революция взялась за меня. Она принялась скоблить с меня вздохи и слюни - волос за волосом,- и семь лет я орал от боли, которую нельзя передать...
И вот я вылечился. Я стал понятливее и умней. Я видел новый мир, который строили без сапог, и видел людей, которые стреляли в него из обрезов и пушек. Я видел все: поля, ликбезы, леса, коридоры, заводы. Я видел пробные выезды и кулацкие выстрелы. Я научился исследовать каждого гуманиста - с глазу на глаз, вплоть до прадеда. Я вылечился. Я стал человеком"*.
* (Габрилович Е. И. Прощание. М., "Сов. лит.", 1934, с. 72-73.)
Годы первых пятилеток Габрилович колесил по стране, и не как безмолвный свидетель, а как посильный участник великих строек и классовых битв. Выходили его тонкие книжки, мне запомнилось название одной из них: "Ошибки, дожди и свадьбы".
Прозаик искал и находил свой голос, но потом вдруг замолчал. А то, что он написал в середине тридцатых годов, было киносценарием, названным "Последняя ночь" и поставленным Юлием Райзманом. Это произведение сразу вошло в классику советского киноискусства.
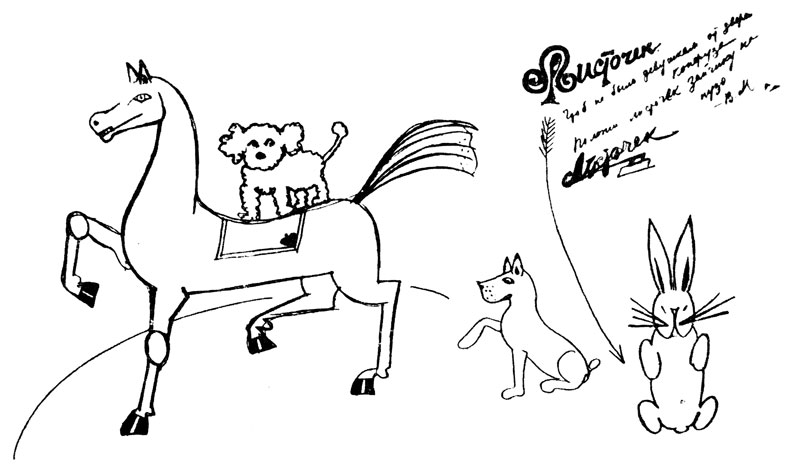
Рисунки В. Маяковского на полях писем
Начался новый Евгений Габрилович, сначала военный корреспондент, а затем - кинодраматург, и мне уже не надо перечислять те фильмы, которые на памяти у следующих поколений. А может быть, надо, ибо слишком коротка память у кинематографии, а то, что сделано в ней авторами сценариев, до сих пор оценивается по какому-то другому, заниженному по сравнению с литературой счету.
Может быть, вы осведомлены больше меня, но я не сумею назвать советского прозаика, который так вдохновенно воссоздал образ В. И. Ленина и сумел без единой цитаты передать ход ленинской мысли в течение монолога, длящегося без перерыва полтора часа, как это с поразительной отвагой и тактом сделал Евгений Габрилович. Тираж фильма "Ленин в Польше" исчисляется миллионами наших и зарубежных читателей - да, да, я не обмолвился: мне так и хотелось назвать зрителей этого произведения Габриловича.
Еще живуча имеющая, к сожалению, глубокие корни плохая традиция считать профессию киносценариста полупочтенной по сравнению с званием "литератор", "драматург" или "режиссер-автор".
Вот так из года в год и продолжаем мы говорить с уважением только о кинематографе Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Всеволода Пудовкина; а следовало бы узаконить раз и навсегда понятие - кинематограф Евгения Габриловича.
Пора наконец осознать, что перед нами большой и оригинальный писатель, со своим миром, кругом идей, стилем, писатель-новатор, чье влияние сказалось на стилистике всех режиссеров, работавших с ним.
Не только фильмы Ромма, Райзмана или автора этих строк были бы другими (не говорю - хуже или лучше, а именно - другими), но и успех режиссеров второго поколения, как Авербах или Панфилов, неразрывно связан с прозой Габриловича. Тут же осмелюсь заметить, что после отличного фильма Авербаха "Монолог" хороший фильм "Объяснение в любви", тоже по сценарию Габриловича, все-таки не достиг уровня новеллы "Филиппок", лежащей в его основе, а два первых фильма Панфилова, в которых он работал с Габриловичем, явственно отличаются от третьего, уж не говоря о том, что я лично не смог бы осуществить ни одного кадра из ленинской трилогии без соучастия моего талантливого друга и единомышленника.
Все это отступление понадобилось мне не зря - ведь именно таким виделся Маяковскому профессионал кинодраматург, отдающий не между делом, а всего себя новому искусству.
Не берусь судить, как отнесся бы поэт к нашим фильмам о Ленине,- у всех на памяти, как резко не принял он опыт Эйзенштейна в "Октябре" (может быть, мастерство М. Штрауха примирило бы его с экранным образом Владимира Ильича), но уверен, что один из сценариев Габриловича нашел бы в нем отзывчивого зрителя.
Александр Февральский вспоминал о вкусах Маяковского:
"Он охотно смотрел хронику, мультипликационную кинематографию. Что касается игровых картин, то авантюрных фильмов он не любил, предпочитая им фильмы простые по сюжету"* (курсив мой.- С. Ю.).
* (Маяковский В. В. Кино. М., Госкиноиздат, 1940, с. 19.)
Ему вторит и Виктор Шкловский: "Кино Маяковский любил хроникальное (но организованно-хроникальное) и сюжетное"* (курсив мой.- С. Ю.).
* ("Кино", 1940, № 16, 11 апр., с. 3.)
Такой сценарий, с простым сюжетом, написал Евгений Габрилович (в содружестве с Глебом Панфиловым). Он назывался "Начало". Казалось, чего незатейливее: в городе Речинске живет и трудится Паша Строганова, рядовая фабричная девчушка, которая сама про себя говорит, что она "не эффектная". Потому и на танцульках Паша обречена сторожить сумочки, зонтики и веера других, более удачливых, отплясывающих подружек.
Ее добросердечием пользуется и Валя, подкидывающая ей сынишку, когда сама убегает в кино, и в ее комнатушке проводят любовные свидания Павлик с Томкой, но своего, личного счастья у нее нет...
Однако оно приходит внезапно - местный ухажер Аркадий неожиданно приглашает Пашу на танец и... одиночество кончается... Рождается любовь, первая, пылкая, радостная... Паша преображается, она впервые видит себя в зеркале по-иному, принаряжается по-модному, в мини-юбку, устраивает "роскошный" ужин с деликатесами для возлюбленного, счастье достигает апогея, но... рушится так же внезапно, как настигло: Паша узнает, что ее избранник солгал - он отец семейства, и его домашняя размолвка была временной...
Сухой пересказ этой части незатейливых сюжетных перипетий не дает никакого представления о живом действии, изобилующем тонкими и полными юмора диалогами, отличными режиссерскими находками, а главное, освещенном присутствием в кадре актрисы исключительного дарования - Инны Чуриковой.
Здесь в историю фильма вступил и элемент жизненной биографии героев - по ходу сценария происходит то, что случилось и в действительности: Чурикова на сцене самодеятельного спектакля изображала Бабу Ягу - ведь, по общему мнению, ее наружность не позволяла ей надеяться даже на роль Золушки.
Но так же как в реальной жизни меткий взгляд режиссера Глеба Панфилова распознал за ее "не эффектной" видимостью своеобразие недюжинного таланта, так и на экране кинопостановщик, собирающийся снимать фильм о Жанне д'Арк, рискнул, несмотря на сопротивление дирекции, попробовать Пашу на эту роль.
Он разбудил в провинциальной девчушке из Речинска, дремавшее в ней душевное богатство, и его Жанна д'Арк не превратилась в традиционную "кинодиву", а органически зажила на экране как деревенская героиня, чем-то отдаленно перекликающаяся с образом бессмертной Зои Космодемьянской и многих других патриоток, что отдали свои жизни для победы над фашистскими захватчиками.
Так, казалось, обычная бытовая историка обрела второй смысл: всего три раза ввел сценарист эпизоды из истории Орлеанской девы - допрос, суд и казнь,- но нигде не сфальшивил - описал киносъемку как изнурительный труд, но главное, ему и режиссеру удалось показать, как соприкосновение с настоящим искусством изменяет, растит в девушке из Речинска душевные силы и укрепляет веру в человеческое достоинство.
Если представить, что Владимир Владимирович увидел фильм "Начало", то он не прошел бы мимо него, и мне кажется, я даже рискну утверждать, что он задел бы его за живое.
Не зря журналист Л. Равич вспоминал о Маяковском в статье "Полпред поэзии большевизма":
"Он спрашивал меня подробно о сюжете стихотворения, говорил, что надо к случившемуся прибавлять неслучившееся - тогда будет более убедительно и художественно"*.
* (Маяковскому, 1940, с. 174.)
А Борис Пастернак в "Охранной грамоте" словно разгадал секрет успеха фильма:
"Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым - актуальный момент текущей культуры"*.
* (Пастернак Б. Л. Воздушные пути: Проза разных лет, с. 252.)
Прием введения в настоящее легенды (вспомним Булгакова!), а здесь - истории Жанны д'Арк не являлся новацией - его использовал Л. Фейхтвангер в повести "Симона", и он же в содружестве с Б. Брехтом сочинил на ее основе пьесу "Сны Симоны Машар". В ней французская служанка в дни наступления фашистских полчищ отождествляет себя в мечтах с героиней легенды и совершает подвиг, взрывая оружейный склад. Однако методика двух прославленных авторов резко отличалась от опыта советских кинематографистов. У Брехта и Фейхтвангера была довольно прямолинейная аналогия, мотивированная к тому же традиционным приемом сновидений. Поэтому и повесть и драма, несмотря на искренние и благие намерения авторов, не достигли цели и судьба их осталась коротка.

Артистка Инна Чурикова в роли Жанны д'Арк в фильме 'Начало'
Гораздо более тонкий и сложный контрапункт, соединивший, по выражению Пастернака, "актуальный момент текущей культуры" со средневековой легендой, к тому же мотивированный реальной киносъемкой, создал новый сплав, который точно определил оператор фильма Дм. Долинин:
"Мы считали, что высокая поэзия и все по-настоящему высокое в жизни и искусстве вырастает из простого, обыденного, житейского, повседневного и все это остается высоким только до тех пор, пока не отрывается от породившей его почвы"*.
* (Габрилович Е. И., Панфилов Г. А. Начало. М., "Искусство", 1972, с. 260.)
У Габриловича, конечно, хватило такта закончить историю не хэппи эндом. Да, слава заслуженно приходит к Паше Строгановой, она переживает свой звездный час, но он быстро проходит, возвращаются будни: в городе Речинске герой мимолетного романа покидает ее; на танцульках по-прежнему, казалось, обречена бывшая "кинозвезда" сторожить сумочки более удачливых подруг...
К тому же и в киностоле на нее больше не поступает заявок на новые роли, и лишь обрывки афиш, где ветер треплет ее изображение в рыцарских доспехах, напоминают о быстротечности экранной славы. Но Паша Строганова стала другой, и последние строки литературного сценария гласят:
"Она шла напрямик, через всю танцплощадку. Шла легко, независимо, гордо... Оркестр перестал играть. Танцы остановились.
Но тут Паша ударила в ладоши, издала какой-то странный гортанный звук, взмахнула руками и запела. Запела так, что все невольно повернули головы... Паша пела. Пела непохоже на других... Она пела, пританцовывая... Она была уморительна, неистощима и прекрасна... Случилось чудо - все пришло в движение, не было больше ни скучающих, ни скептиков, ни равнодушных...
И скоро песня эта гремела и рвалась во все стороны. И, казалось, никакая сила на свете на сможет ее остановить... Да, это была актриса! И как всякий талант, он был щедр, прекрасен и неистребим, и ничто в жизни не могло его сломить"*.
* (Габрилович Е. И., Панфилов Г. А. Начало. М., "Искусство", 1972, с. 240.)
Второй фильм, в котором также "к случившемуся прибавлялось неслучившееся", а легенда связывала "очередное неизвестное с известным" и поэтому могла заинтересовать поэта, совпадал с теми сведениями, что дошли до нас из запасов его заграничных странствий. В том же юбилейном номере газеты "Кино" упоминается понравившийся Маяковскому фильм "Девушка из Гаваны", с романтическим и в то же время жизненно простым сюжетом.
Видимо, от отвечал тем его устремлениям, которые точно определил В. Шкловский:
"В кино Маяковский хотел ввести поэтические образы. Ему нужна была и хроника и властное владение предметом. Сопоставление предметов (курсив мой.- С. Ю.), а не только показ их. Он двигал кино в иной поэтический ряд" (курсив мой.- С. Ю.)*.
* ("Кино", 1940, № 16, 11 апр., с. 3.)
Таким фильмом был "Черный Орфей", снятый в Бразилии французским режиссером Марселем Камю по очень известной пьесе поэта, чье имя звучит для нас непривычно: Мораис Винисиус Крус Мело де Мораис Маркус.
Этот фильм, сыгранный только черными актерами (в подавляющем большинстве непрофессионалами, за исключением известной негритянской актрисы Марпессы Даун), произвел сенсацию в мире и был награжден "Золотой пальмовой ветвью" - главным призом фестиваля в Канне 1959 года.
В нем с редкой прозорливостью соединились элементы организованной хроники, которую так ценил Маяковский,- действие происходило на фоне настоящего карнавала в Рио-де-Жанейро - с поэтическим сюжетом, парафразой мифа об Орфее и Эвридике.
Нужно ли напоминать о притягательности образа Орфея, участника похода аргонавтов: он помогал гребцам - усмирял песней волны, ибо был наделен магической силой искусства, которой покорялись не только люди и боги, но даже и природа. Он был женат на Эвридике, и когда она внезапно умерла от укуса змеи, то он отправился за ней в царство мертвых.
Персефона и Аид были покорены игрой и пением Орфея, и Аид обещал вернуть Эвридику на землю, если он исполнит его условие - не взглянет на жену, прежде чем войдет в свой дом.
Счастливый Орфей возвращается с Эвридикой, но нарушает обет, обернувшись к жене, которая вторично исчезает в царство смерти, теперь уже навсегда.

Артистка Инна Чурикова в роли Паши Строгановой в фильме 'Начало' (сценарий Е. Габриловича и Г. Панфилова. Режиссер Глеб Панфилов. 'Ленфильм')
Предание не говорит, что заставило Орфея взглянуть раньше срока на Эвридику, но мне бы хотелось думать, что им двигало столь понятное чувство нетерпения любви...
Однако этот классический сюжет получил совершенно неожиданное решение у бразильского поэта. Судите сами: черный Орфей - обыкновенный водитель трамвая, единственная его особенность - он любит на восходе солнца, перед началом работы в депо, спеть песню, аккомпанируя себе на гитаре, и делает это настолько хорошо, что окружающие его мальчишки из нищих хижин наивно думают, что именно по велению его песни солнце встает из-за горизонта.
Молодая деревенская девушка Эвридика приезжает в поисках работы в столицу, к своей кузине Серафине... Встреча с Орфеем решает ее судьбу - рождается любовь... Но, так же как и на пути Паши Строгановой, позникает препятствие - возлюбленный помолвлен с местной весьма ревнивой красоткой Мирой... В хороводе карнавала Эвридику преследует зловещая маска Смерти...

Артистка Марпесса Даун в роли Эвридики в фильме 'Черный Орфей'. Сценарий Винисиуса де Морайса. Режиссер Марсель Камю. Бразилия. 1959 г.
И наступает трагическая развязка: в трамвайном депо, желая спасти Эвридику, влюбленный включает не тот рычаг - вспышка короткого замыкания, девушка погибает...
Орфей в отчаянии ищет тело Эври-дики, он находит его в морге и похищает. Драма разворачивается, как и на речинской танцульке, только здесь в ритме самбы пляшут сотни пар в причудливых нарядах, а царство - это фавеллы, жалкие лачуги, окаймляющие одну из самых ослепительных набережных мира - Копакабану: именно там, в притонах нищеты, пытается воскресить Орфей свою Эвридику, но их настигает обезумевшая от ревности соперница.
Согласно античному мифу, Орфей не преклонялся перед Дионисом, а своим покровителем почитал Гелиоса, бога солнца, поэтому разгневанный Дионис наслал на непокорного поэта злобных менад. Они растерзали Орфея, разбросав повсюду части его тела, собранные и погребенные потом музами. По преданию, смерть Орфея, погибшего от дикого неистовства вакханок, оплакивали птицы, звери, леса, камни и деревья, зачарованные его музыкой.
Так и в сегодняшнем Рио: вакханка возглавляет стаю взбешенных подруг, и в пламени подожженной фавеллы погибают Орфей и Эвридика. Маска Смерти, казалось, может торжествовать свою победу, но фильм заканчивается песней мальчишки, подобравшего гитару героя. Новый Орфей встречает восход солнца над океанским заливом, и его голос звучит так же победоносно, как и далекой речинской Жанны д'Арк - Паши Строгановой... Это голос таланта...
Удивительное сочетание реальной обыденности и контрастов карнавальной праздничности с нищетой, извечный конфликт любви, ревности и смерти, круто замешанный в ритме длящейся непрерывно самбы, народного танца, к которому целый год готовятся (даже в специальных школах) "кариоки" - так прозвали обитателей Рио-де-Жанейро,- создает фильм, о котором его вдохновитель и автор Винисиус де Мораис мог бы сказать словами другого поэта, которого я столь часто упоминаю в этой книге:
"Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв. в 5-ти т., т. 4, с. 143.)
Тут настало время рассказать об этом выдающемся поэте и музыканте современной Бразилии, о котором мы так мало знаем.
Слава Жоржи Амаду заслуженно громко донеслась до нас. Именно в его доме я познакомился со скромным человеком, чьи мягкие черты лица напомнили мне чем-то обаяние Поля Элюара, и с того дня в число моих друзей поэтов - чеха Незвала, французов Арагона и Превера, турка Хикмета, грузина Чиковани - вошел и бразилец Винисиус де Мораис.
Не владея португальским языком, я лишь по частичным переводам на французский знал отдельные стихи из пяти его сборников, где явно прослеживался переход от раннего мистицизма и пессимизма (совсем как у А. Блока) к все крепнущему обращению к весомым проблемам страны и народа.
К тому же он являлся сам композитором и исполнителем собственных песен (примеры Брассенса, Лемарка и Лео Ферре - во Франции, Окуджавы и Высоцкого - у нас у всех на виду, точнее, на слуху), и связи автора "Черного Орфея" с народным творчеством были очевидны.
Не случайно бразильский музыковед Рафаэл Жозе ди Менезиш Бастус утверждал:
"Под каким бы углом зрения мы ни рассматривали бразильский музыкальный язык, это всегда ключ к пониманию бразильского общества. Это язык глубоко эмоциональный, воздействующий на мотивационную сферу личности, на ее ценностные суждения и межличностные отношения... он не столько описывает мир, сколько вписывается в него, что весьма характерно для бразильского национального сознания"*.
* ("Культуры", изд. ЮНЕСКО, 1983, № 3, с. 46.)
Винисиус де Мораис отдаленно знал поэзию Маяковского, и я читал ему свои любимые строки в отличных переводах Эльзы Триоле - он впитывал их с жадностью, стараясь в моей весьма несовершенной декламации уловить музыку слова и ритм советского поэта.
Совпадение эстетики Маяковского и де Мораиса меня поразило - "Черный Орфей", казалось, был сочинен по всем тем зрелищным законам, о которых мечтал Владимир Владимирович: случившееся органически сливалось с не-случившимся, организованная хроника - с простым, но поэтическим сюжетом, а пластичное и естественное поведение на экране чернокожих персонажей, казалось, впитало весь ранний опыт советского кино: трамвайщика изображал Брено Мелю, один из самых популярных футболистов; Чико-Бото, возлюбленного Серафины, играл шофер такси; и даже Адемар де Сильва, в амплуа вестника гибели, был не кто иной, как известный олимпийский чемпион по тройному прыжку.
Так и вспоминаются наши боксеры Барнет и Градополов, циркачи Янина Жеймо и "Красные дьяволята", эстрадный танцовщик Оболенский, администратор Подобед - все первые натурщики Кулешова, Эйзенштейна и "фэксов", пленявшие своей естественностью и увлеченностью на экране.
Бразильский поэт показал мне свою родину, так же как и художники открывали Маяковскому Мексику. Винисиус де Мораис летал со мной в фантастическую столицу Бразилиа, созданную гениальным архитектором-коммунистом Нимейером,- единственный в мире город без перекрестков и где один только узор дорог, видимый с самолета, уже произведение искусства, не говоря об опрокинутых чашах здания парламента и вообще об удивительной по гармонии и ритму этой архитектурной поэме.
Но бразильский друг открыл мне и вторую, не парадную сторону необъятной страны: и простреленный полицейскими пулями фасад здания прогрессивного Союза студентов, и громоздкие подражания чикагским небоскребам в деловых кварталах Сан-Пауло, и засушливые земли цвета запекшейся крови, принадлежащие латифундистам, и обрядовые суеверия "мокамбы" в рыбацких поселках, а рядом и поразительное живописное дарование не только Портинари, но и художницы Джаниры, бывшей прачки, ставшей не менее знаменитой, чем "таможенник" Анри Руссо - в Париже.
Родина, которую так любил поэт, не очень была к нему благосклонна - военная диктатура чаще предпочитала отправлять его на внешне престижные дипломатические посты культурного атташе в США и Францию, где его популярность была менее опасной, чем внутри страны.
И вот ирония судьбы: не на классическом Олимпе, а на подмостках парижского мюзик-холла "Олимпия" вынужден был выступать со своими песнями современный бразильский Орфей. Он пел о своей стране мелодию под названием "От родины вдали".
В последний раз я встретился со своим другом в 1966 году в Канне, пригласил его в Москву, и мне мечталось, как наступят дни, когда я поведу его по тем местам, где жил и работал Маяковский.
Я привел бы его на площадь, названную его именем, спустился в метро, украшенное плафонами Дейнеки, пригласил в школу, где Маяковского ученики не "проходят", а читают, звонко и вдохновенно, "угостил" спектаклем в театре, носящем его имя, свел бы в музей, где показал сотни книг поэта, переведенных на языки всех наших республик, выставку боевых плакатов РОСТА и, наконец, усадил бы в маленьком кинозале, где хотя бы на экране, в единственном сохранившемся фильме с его участием, он смог бы заглянуть в глаза поэту, чей голос в подлинную силу звучит и сегодня всюду, где идет борьба за права и счастье человека.
Так встретились бы два Орфея - оба они потеряли свою Эвридику, а я потерял их обоих: Винисиус де Мораис ушел из жизни в 1983 году.
И лучшей ему эпитафии я не мог бы найти, чем у другого бразильского поэта - Рибейро Коуто (1898-1963), признанного в 1956 году лучшим латиноамериканским писателем:
"Я знал одного человека. Он был удивительный выдумщик. Он говорил: - Поэзию нужно вырастить из солнца этой страны для этой страны солнца"*.
* (Поэзия Латинской Америки. М., "Худож. лит.", 1975, с. 154.)
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'