
"Единодержавная царица трагической сцены"
Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, и, может быть, только об ней...
А. Пушкин

Единодержавная царица трагической сцены
Екатерина Семеновна Семенова была, по идеалам того времени, красавица. Ее уподобляли греческим богиням, неизменно воспевали ее лицо, фигуру, подобную торсу античной статуи. Густой синеве выразительных глаз сочиняли мадригалы. Обаянию мелодичного голоса поддавались даже недруги. Богатству артистического воображения, умению вживаться в страсти героинь, величавости поступи и жестов, неизменно вдумчивому высокому искусству исполнения при наличии пылкого темперамента удивлялись многие современники. Знатные театралы, сидящие в первых рядах кресел, выказывали ей свое благоволение. Партер восторженно рукоплескал. Раёк неистовствовал.
Слава сопутствовала ей с первых шагов на сцене. А сделала она эти шаги опять-таки с помощью все того же Ивана Афанасьевича Дмитревского. Семенова была последняя его ученица. Он считал ее лучшей из всех.
В 1802 году Дмитревский был удостоен чести стать действительным членом Российской академии. Будучи принят туда третьего мая этого года по рекомендации ее председателя А. А. Нартова, 21 июня Дмитревский произнес перед ее членами речь. Он говорил, что стремится "распространить в отечестве... все красоты и важность российского слова, утвердить истинный вкус в стихотворстве и красноречии, преподать полные правила во всей словесности и совершенное в письменах просвещение устроить...". Речь эту можно считать творческим кредо Ивана Афанасьевича, которому следовал он неуклонно и в стенах Петербургского театрального училища, за воспитанниками которого по-прежнему наблюдал зорко.
По-видимому, совсем не случайно под особой опекой его оказалась юная Екатерина Семенова (или, как чаще ее называли по обычаю тех лет, Катерина). Принята она была в театральную школу тогда, когда Дмитревскому еще официально вменялось в обязанность быть главным надзирателем за актерами и воспитанниками.
Каким образом появилась там десятилетняя Катенька Семенова, до сих пор не удалось выяснить ни одному из ее биографов. Почти все они сходятся на том, что числилась она дочерью бывших крепостных смоленского помещика Путяты. Путята будто бы подарил ее родителей - дворовых Дарью и Семена - в благодарность за обучение своего сына преподавателю Кадетского корпуса, исправлявшему там одно время секретарскую должность, Прохору Ивановичу Жданову. Тот был "человек умный", а "вышел из поповичей". Где-то, скорее всего, в начале 1790-х годов он дал вольные Семену и Дарье, а также их дочерям - старшей Екатерине и младшей Нимфодоре. Екатерина (родившаяся 7 ноября 1786 года) и Нимфодора, по-видимому, не были родными дочерями Семена и имели разных отцов. Вполне возможно, что Семен, дав им свое отчество, а следовательно, и фамилию, лишь прикрыл "грех" крепостной Дарьи.
Биография Екатерины Семеновой и ее младшей сестры - Нимфодоры мало-мальски начинает проясняться лишь с поступления их в театральную школу: Екатерины- в 1796 году, а Нимфодоры - чуть позже.
Но и здесь много неясного. Даже точного адреса, где помещалось театральное училище между 1795 годом (когда выехало оно из стен Большого театра) и 1805-м (когда въехало в приобретенный у портного Кребса дом между Офицерской ул. и Екатерининским каналом, неподалеку от Львиного мостика), в архивном фонде дирекции императорских театров найти не удалось.
Известно лишь, что за бытом воспитанниц надзирала супруга бывшего содержателя итальянского театра, перешедшего в ведомство дирекции придворных трупп, предприимчивого Казасси. Он-то и предложил утвержденный в 1792 году дирекцией следующий "план":
"Воспитанники театральные, все вообще, должны учиться музыке, танцевать, по-русски порядочно писать и читать, также, если заблагорассудится, и по-французски... Мы сами были так воспитаны. Все обучаются музыке и танцевать, и некоторые, по способности, обучались петь и искусству актера... Если воспитанник обучался искусству актера и найдется неспособным, то может быть, будет изрядно танцевать; если же он и тут не успеет, то, уж конечно, он будет музыкант; и таким образом может дирекция дойти до того, что будет воспитывать в школе не понапрасну, и кто, конечно, выйдет на жалованье порядочный человек, а не повеса, потому что во время бытности своей он в училище почти не имел праздного времени".
По расписанию, предложенному Казасси, воспитанники должны были обучаться "по-русски" два часа, танцам - два часа, после обеда отдавать музыке с вокалом два часа и "искусству актера" - два часа. Кроме того, если понадобится, вечером выступать в качестве статистов в театре. По мнению Казасси, таким образом, ежели они будут "меньше праздны, то меньше и замыслов дурных будет".
Более всего в младших отделениях обращали внимания на танцы. Балетному искусству учили с малолетства. Им воспитанники занимались с раннего утра. Если же по истечении двух лет они оказывались неспособны к "танцеванию", то их начинали усиленно учить "акциям и декламации", т. е. драматическому искусству. А уж если и здесь они не проявляли себя, тогда делали из них музыкантов оркестра, костюмеров, портних, "махинистов", бутафоров, обязанных прослужить после окончания школы в театре не менее десяти лет.
Екатерина Семенова была способна ко всем сценическим дисциплинам. Она прекрасно танцевала, неплохо пела. Но больше всего проявился в ней талант к "акциям и декламации". Иначе вряд ли бы на нее обратил внимание Дмитревский.
Правда, вначале драматическому искусству ее учил превосходный комический актер Василий Федорович Рыкалов. По мнению Дмитревского, он принадлежал к тем "комедиантам", которые могли бы с честью стоять в первом ряду с лучшими комиками французской сцены. Сам же Иван Афанасьевич, возглавляя и труппу и училище до 1799 года, обучал старших учеников. Но и младших не выпускал из виду. А затем, будучи уже на пенсии, стал в 1802 году заниматься с Семеновой персонально. Выбор его и на сей раз оказался безошибочен.
В середине июня он начал готовить в театральной школе спектакли с главными ролями для нее в драмах -Коцебу, переведенных Н. С. Краснопольским: "Утешенная вдова, или Примирение двух братьев" и "Изгнанное семейство, или Корсиканцы".
Она сыграла в них роли юных Софьи и Натальи, чистых и добродетельных, взывающих к миру между людьми и добру. Роли были незамысловаты. И избрал их для старшей воспитанницы школы Дмитревский, видимо, потому, что хотел подвести ее к более сложным трагическим образам.
Как же учил он и чему? "Дмитревский, - рассказывал Григорий Жебелев, - проходил с каждым роль и отдельные места. Больше контрастов требовал он. Он иногда слово за словом разбирал реплики с ним игравших. Показывал положения, переходы и даже отдельные позы и движения. Эффекты он придумывал самые интересные, неожиданные, но все не нарушало общего хода пьесы, а каждое лицо не проигрывало в своей характеристике. О декламации и говорить нечего. Здесь он плавал как рыба в воде и показывал такие пассажи, о которых годами не додумаешься... Он заставлял любить театр, интересоваться делом своим и работать над каждым пустяком... Все искали его советов, указаний, и он расточал их для драматургов и актеров, как расточает золото богач, не знающий предела своего богатства".
Занятия Дмитревского с Екатериной Семеновой превзошли все ожидания. Даже скептичный, обычно иронически взиравший на своего брата актера, Шушерин не скрывал восхищения от ролей, сыгранных в юности Екатериной Семеновой.
"Ты не можешь судить о ней, - с жаром говорил он молодому Сергею Аксакову, - не видавши ее в тех ролях, которые она игрывала, будучи еще в школе... Ее надобно видеть в "Примирении двух братьев" или "Корсиканцах" Коцебу... Стоя на коленях надо было смотреть ее в этих двух ролях!.."
Воспитанница Семенова выступила в этих ролях во второй половине 1802 года, во время отсутствия Александра Львовича Нарышкина. Перед самым ее дебютом на школьной сцене заменявший его А. А. Майков предложил Дмитревскому вступить во временное официальное надзирание над училищем.
"Я льщу себя несомненно надеждою, что требование мое 1200 р. жалованья в год и бенефис каждогодно же, - отвечал ему, соглашаясь на "надзирание", Дмитревский,- не покажется неумеренным..."
Возвратившись из Франции, где он набирал новую французскую труппу, и услыхав об успехе Семеновой, Нарышкин приказал 1 февраля 1803 года "определить" Дмитревского в театральную школу вновь для постоянного преподавания в декламационном классе со ставкой 1200 рублей в год, приплюсованной к пенсии, и одним ежегодным бенефисом. А за прошедшие полгода, "в кои он обучал" (по всей видимости, Екатерину Семенову), повелел выдать ему единовременно 300 рублей.
3 февраля того же года состоялось еще одно представление под руководством Дмитревского. Была показана пьеса Вольтера "Нанина", в одноименной роли которой впервые выступила уже на сцене Большого театра с игравшими там профессиональными актерами воспитанница Семенова большая (так будет значиться потом в афишах Екатерина Семенова, в отличие от Семеновой меньшей - сестры ее, Нимфодоры Семеновой, которая также через три года выйдет на ту же сцену).
Сразу почуяв в юной воспитаннице незаурядный талант, осторожный Дмитревский для ее дебюта в профессиональном, а не в школьном театре выбрал не господствующую тогда "коцебятину", в которой уже выявила свои актерские возможности Семенова, а просветительскую позднюю комедию Вольтера, правда отдавшего в ней некоторую дань "чувствительности". Дмитревский сам перевел для своей ученицы стихотворную "Нанину". Причем перевел ее прозой, что еще более усугубило сентименталистское звучание пьесы строгого, казалось бы, поборника классицизма.
Несколько лет спустя, когда имя Екатерины Семеновой обретет громкую славу в трагическом репертуаре, один из критиков не без удивления подчеркнет, что актриса Семенова "не ограничивается одними только трагическими страстями... она умеет представлять зрителям начинающуюся любовь молодой девушки, умной, доброй, чистосердечной, не зараженной светскими предрассудками". На первых порах именно это умение принесло ей шумный успех на большой сцене, заставило сразу заговорить зрителей о ее необыкновенном даровании. И дало право Пимену Арапову зафиксировать в своей "Летописи": "Для высокой драмы, опытный руководитель Дмитревский приготовил в театральном училище отличающуюся своей красотою, прекрасным органом и замечательным талантом воспитанницу Екатерину Семеновну Семенову".
Примечательным, даже символичным было то, что дебют Екатерины Семеновой состоялся в перестроенном Тома де Томоном Большом Каменном театре на Театральной площади. "Подобного сооружения еще нет во Франции, несмотря на двадцать театров, которыми Париж скорее загроможден, чем украшен... Ни один из них не позволяет еще ставить оперу с помпой, требуемой при собрании богов и героев", - не без хвастливого чувства, говоря о нем, утверждали петербуржцы.
Екатерине Семеновой предстояло в этом величественном театре вскоре сыграть и в "опере с помпой", и в героико-патриотической пьесе. Она имела в них успех. Но, в отличие от "Нанины", созданные ею богиня Диана в переведенной когда-то Дмитревским опере "Дианино древо", Милослава в пресловутой "Днепровской русалке", Ирта в пьесе гастролирующего в Петербурге Плавилыцикова "Ермак, покоритель Сибири" служили скорее "утехой для глаз", нежели "пищей для сердца и ума". Зрители любовались юной грацией Семеновой, отмечали ее прелестную наружность, изящество пластики, услаждали слух ее мелодичным голосом. Но все это еще не предвещало в ней великую трагическую актрису. Поистине трагическое начало ее дарования на сей раз угадал не Дмитревский, а утвержденный в 1804 году "советчиком репертуарной части" князь Шаховской.
Именно ей поручил он главную роль в трагедии, которую отыскал, на которую делал решающую ставку, с постановки которой 23 ноября 1804 года начался новый этап развития русской сцены.
Ошеломляющий успех "Эдипа в Афинах" Озерова был определен не премьером российской труппы Яковлевым, а исполнителем главной роли Яковом Емельяновичем Шушериным и воспитанницей Екатериной Семеновой, выступившей в роли Антигоны - верной дочери главного героя, который, не ведая того, по воле богов стал убийцей отца и мужем собственной матери.
Об "Эдипе" заговорил весь Петербург. "Эдипа" восхваляли. "Эдипу" удивлялись. Строки из него заучивали наизусть. Восхищались самой трагедией, интерпретацией мифологического сюжета, историческим принципом ее постановки, задуманной Шаховским в духе античных представлений, сценическими костюмами, на эскизах которых влюбленный в древнее искусство А. Н. Оленин выверил каждый узор, каждый орнамент. Восторгались грандиозной перспективной декорацией Гонзаго: ее мощными дорическими колоннами, храмом мстительных эвменид. (По словам рецензента, декорация "занимала самое сердце, рождая в нем какие-то мрачные предчувствия".) Наслаждались музыкой капельмейстера Козловского, ее величавой трагичностью (правда, несколько не соответствовавшей благополучному концу пьесы, к которому склонил автора, по сведениям одних, Дмитревский, по уверениям других, - испугавшиеся неожиданного финала актеры, а по словам третьих, - просвещенные театралы во главе с Олениным, которые окружали в то время Шаховского).
Именно с этого спектакля началось их активное воздействие на театральные постановки. Именно с этого спектакля началось и их увлечение начинающей актрисой, неустанными поклонниками и друзьями которой они будут до самого конца ее театральной карьеры.
"Дочь нежная преступного отца", "опора слабая несчастного слепца", Семенова - Антигона появлялась лишь во втором действии вместе с Шушериным - Эдипом. В отличие от игравшего эту роль в Москве Плавильщикова, который подчеркивал негодование, даже бурное сопротивление Эдипа року, сужденному ему богами, Шушерин на протяжении всей озеровской трагедии "слезы лил" и сетовал на судьбу, вызывая в ответ не менее обильные слезы сочувствия зрителей. То была самая любимая роль приверженного сентиментализму стареющего актера.
Но, с упоением рассказывая Аксакову о собственном успехе, он в то же время не мог удержаться от восторгов, говоря о своей юной партнерше: "Как она была хороша! Какой голос! Какое чувство..."
Для такого актера, каким был Шушерин, слово "чувство" являлось высшей похвалой. И Семенова заслужила ее. Беззаветная любовь к отцу, нежность к нему, сочувствие его горю - всю эту гамму переживаний Антигоны сумела она в полной мере донести до зрителей. Но даже тогда, в самом начале сценической карьеры, она не была носительницей стерильной "чувствительности", столь характерной для ее старшего партнера.
Уже в ранних сценических созданиях Екатерины Семеновой прежде всего преобладало чувство достоинства ее героинь, своеобразной гордости их при самых тяжких страданиях.
"Какой огонь! - восклицал Шушерин. - Ну да вот какой огонь: когда в третьем акте Креон, в отсутствие Тезея, похищает Эдипа и воины удерживают Антигону, то она пришла в такую пассию, что... вырвалась от воинов и убежала вслед за Эдипом, чего по пьесе не следовало делать; сцена оставалась, может быть, минуты две пустою; публика, восхищенная игрой Семеновой, продолжала хлопать; когда же воины притащили Антигону на сцену насильно, то гром рукоплесканий потряс театр! Все вышло так естественно, что публика не могла заметить нарушения хода пьесы".
Именно с роли Антигоны начнет проявляться особенность, которая потом принесет Семеновой невиданный триумф: впитывать в себя все лучшее, что могли дать учителя - в данное время Дмитревский и Шаховской, - и способность со всей мощью проявлять только ей присущий вдохновенный темперамент, исполненное огромной силы лирическое дарование.
Успех Семеновой превзошел все ожидания. "Семенова прелестна, в первой раз в жизни удается мне видеть в актрисах русской сцены такое прекрасное явление: молода, красавица и играет с большим чувством", - восхищался Жихарев.
Мнение его разделяли многие.
4 июля 1805 года Нарышкин издал приказ о выпуске на сцену девиц Софьи Черниковой с жалованьем 700 рублей, Катерины Семеновой с жалованьем 500 рублей и Катерины Ежовой с жалованьем 400 рублей. Всем полагалась "казенная квартира", "одежда натурою" и единовременное награждение по 100 рублей.
Знаменательно, что все они оказались потом даровитыми актрисами. Софья Черникова, вскоре выйдя замуж и взяв фамилию мужа, впоследствии прославленного певца, станет знаменитой Самойловой, от которой пойдет потом целая династия актеров, Катерина Ежова - острой характерной актрисой и гражданской женой Александра Александровича Шаховского. Катерина Семенова займет особое, недосягаемое, принадлежащее только ей место в русском театре.
* * *
"Казенной квартирой", куда следовало Екатерине Семеновой поселиться, она не воспользовалась. 15 августа дирекция издала еще один приказ, в котором было указано, что за "неимением квартиры" выдавать актрисе Катерине Семеновой по 200 рублей в год. Так ли это было или не так, в чем причина, что она не поселилась вместе с другими актерами, можно строить только предположения. Тем более что адреса нанимаемой ею квартиры в документах театральной дирекции не имеется.
О личной жизни Екатерины Семеновны вообще известно не так уж много. Любящие посудачить актеры и "повспоминать" мемуаристы скупы в своих рассказах, даже рассчитанных на более позднее прочтение. В письмах актеров, дошедших до нас, упоминается между прочим, что поселилась она с матерью. Известно, что сестра ее Нимфодора, тоже необыкновенная красавица, до 1808 года воспитывалась в театральной школе. И что с Нимфодорой занимался известный в то время композитор Кавос, который и сделал из нее, несмотря на слабый голос, неплохую певицу, чаще всего выступавшую в водевилях.
Из мемуарных свидетельств вырисовывается гордый, сильный и в то же время до болезненности самолюбивый нрав "младой Семеновой". Больше всего боялась она фамильярничания как со стороны не всегда грамотных, не всегда тонких в своих шутках, часто заискивающих и злословящих актеров, так и со стороны бесцеремонных, фланирующих по партеру, фойе и за кулисами волокит-театралов. Екатерина Семенова умела так взглянуть на вьющихся около нее поклонников, так огорошить их презрительно брошенным вопросом: "Чего-с?", что те с дежурными комплиментами и подойти к ней в следующий раз не решались.
Конечно, подобное чувство независимости пришло к ней не сразу. Для этого надо было завоевать положение на сцене. Да и солидных защитников, на которых можно было бы безбоязненно опереться. Но к Екатерине Семеновой и то, и те пришли довольно скоро.
После зачисления ее на сцену она тотчас вошла в основной репертуар, отняв часть ролей у Александры Дмитриевны Каратыгиной (и тем самым вызвав далеко не добрые чувства ставшего постоянным партнером Семеновой Алексея Семеновича Яковлева).
В ролях Семенова недостатка не имела. За пять лет - с 1803 по 1808 год - она сыграла их около двадцати. Среди них были такие любимые ею, как роль неистовой Сумбеки, погубившей из ревности к возлюбленному подвластное ей Казанское царство, в одноименной трагедии С. Глинки; крестьянки Варвары в антикрепостнической пьесе Ильина "Рекрутский набор"; Лизы в комедии Крылова "Модная лавка" (потом она сыграет ее 66 раз), Кларансы во "Влюбленном Шекспире" и многие другие.
И все же в репертуаре Екатерины Семеновой они не стали главными. Утвердили ее славу трагедии Озерова. Именно они дали основание Пушкину увековечить имена и актрисы, и драматурга:
Там Озеров невольны дани Народных слез, рукоплесканий С младой Семеновой делил...
Сыгранная ею 8 декабря 1805 года в озеровском "Фингале" роль стала предметом новых мадригалов, восхвалений, рукоплесканий.
В спектакле, поставленном Шаховским, кроме Яковлева и Семеновой были заняты и Шушерин в роли Старна, и Самойлов со своей будущей женой Черниковой. Оформляли его мастера перспективной живописи "могучий" Гонзаго и "романтический" Корсини. Костюмы, как и в "Эдипе", готовили по рисункам Оленина. Торжественную музыку к постановке, то элегически-нежную, с преобладанием звучания арф и гобоев, то тревожно-суровую - с ведущей партией громкозвучных духовых инструментов, создал композитор О. А. Козловский. Музыка служила своеобразным камертоном сценического решения пьесы Озерова. И не могла не воздействовать на образ "воздушной", как ее называли в рецензиях, Моины. Семенова сумела создать ее трагический и в то же время трогательно-нежный облик.
В исполненной тревожной печали любви Моины к Фингалу, на поле брани убившему ее брата, было многое от прежних, подготовленных Семеновой еще в театральной школе с Дмитревским, героинь - вера в добро, искренность, открытое противостояние хитрому коварству. Но в Моине - Семеновой давало себя знать и то, что потом станет отличительной чертой трагических героинь актрисы: страстность самопожертвования во имя охватившего чувства.
Умирая от руки непримиримого, мстительного Старна, она не отказывалась от Фингала, а всем своим существом тянулась к нему, утверждая самой смертью гордое право любить вопреки бездушной, злобной, воинствующей ненависти ее отца.
Рецензенты восхваляли Семенову наряду с "первыми сюжетами" русской труппы Яковлевым и Шушериным. Окружавшие Шаховского театралы предпочитали говорить именно о ней. В их число входили и Алексей Николаевич Оленин, и Николай Иванович Гнедич, и быстро вошедший в петербургский театральный круг вчерашний студент Степан Жихарев.
Невысоко ценя стихотворную трагедию С. Глинки "Сумбека, или Падение Казанского царства", далекий от суесловия Иван Андреевич Крылов и тот написал начинающей актрисе хвалебное четверостишие:
Наш автор сам не знал, Зачем волшебницы титул Сумбеке дал; Но ты, Семенова, его в том оправдала: Ты за Сумбеку нас собой очаровала.
Что касается Алексея Николаевича Оленина, то он после постановки озеровского "Эдипа" начал принимать самое действенное участие в театральных делах. В то время он был самым авторитетным советчиком А. А. Шаховского. Оленин притягивал в свой дом, выходивший на набережную Фонтанки у Семеновского моста (ныне дом № 101), многих служителей и поклонников театральных муз: поэтов, переводчиков, чиновных вершителей театральных судеб, художников, актеров. Вскоре станет Оленин первым директором Публичной библиотеки, директором Академии художеств, важным титулованным сановником. И навсегда останется верным другом, учителем целой плеяды талантливых людей, занимавшихся творчеством, - сочинителей, живописцев, ваятелей, артистов.
С Владиславом Александровичем Озеровым он сблизился в самом начале XIX века. Озеров верил ему беспредельно, полагаясь и на его безукоризненную дружбу, и на его высокий вкус, и "на его честь". "Эдип в Афинах" был "опробирован" у Оленина еще до постановки в присутствии литературных друзей хозяина - самого автора, Дмитревского, Шаховского, а также главных исполнителей - Яковлева, Шушерина, Семеновой и других.
Озеров к постановке своих пьес относился ревниво. Семенову готовил к исполнению его произведений Шаховской, как правило, в присутствии Дмитревского. Но Семеновой преподавал "уроки" и сам драматург, присутствуя на репетициях.
"Сие действие, - говорил он о трагедиях, - основанное на борьбе страстей, требует великого искусства от актеров, особливо же от актрис".
"Что касается до произношения стихов нараспев, - утверждал Озеров,- то я не люблю его, когда оно единообразно или напыщенно". В то же время, заявив, что ему никогда не нравился в трагедиях игравший в Петербурге французский актер Офрен, на облагороженную простоту исполнения которого ориентировали своих учеников Дмитревский и Шаховской, Озеров с негодованием восклицал: "Как можно стихи сего необыкновенного и свыше вдохновенного лица произносить как простую прозу и терять согласие и звучность стихотворства!"
Семенова была быстро схватывающей советы своих сценических руководителей, хотя и не робкой ученицей. Чутко внимала она их порой противоречивым урокам, интуитивно отбирая близкое себе, прислушиваясь на репетициях к голосу собственного разума... И, отдавшись на сцене во власть вдохновения, следовала, как утверждали рецензенты, "истинному голосу страстей" своих героинь.
"Она украсила несовершенные творения Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины..." Еще одна лапидарная, но какая точная формулировка Пушкина! Сотворила...
Вскоре после "Фингала" Озерова, 14 января 1807 года, ей предстояло сыграть в его "Димитрии Донском". Она исполнила роль Ксении с большим успехом, хотя и не смогла затмить Яковлева.
О ней все чаще упоминали журналы. Кое-где в рецензентских отзывах слышался намек, что она "густила" голос, что "это роковой голос для женщины, пригодный лишь в редчайших случаях", что молодой актрисе, "имеющей большой талант в трагедии", не следует "позволять страсти превращаться в неистовство...". Но большинство критиков обращали внимание на другое - на то, что с юной непосредственностью запечатлел Жихарев в своем дневнике сразу же после премьеры "Димитрия Донского": "Семенова была прелестна, особенно в последней сцене, когда Ксения узнает, что Димитрий жив; она с таким чувством и с такою естественностью проговорила: "оживаю... И слезы радости я первы проливаю", что расцеловал бы ее, голубушку. Я искренне простил ей это высокомерное и грубое "чего-с?", которым попотчевала она меня на репетиции".
Страстных поклонников становилось у нее все больше. Среди них двое во многом определили ее последующую личную и сценическую жизнь.
* * *
Когда увидел ее впервые и когда влюбился в нее увлеченный любитель муз, носивший знатный княжеский титул и имевший огромное богатство обер-шталмейстер императорского двора Иван Алексеевич Гагарин, можно только предполагать. Но о том, что в мае 1807 года его открыто называли "покровителем Семеновой", свидетельствует Жихарев в своем дневнике в записи от 9 мая. С радостью прибежал он к позвавшему его "советчику репертуарной части" Шаховскому для обсуждения новой пьесы "Пожарский" в дом Гуанорополо, что стоял у Синего моста. Вскоре появились там сановные приятели хозяина: Павел Михайлович Арсеньев, князь Иван Алексеевич Гагарин и граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин. Присоединились к ним и Иван Андреевич Крылов, который жил в том же доме, и написавший "Пожарского" Матвей Васильевич Крюковский.
Зорко схватывающий все вокруг Степан Жихарев сразу заметил: Арсеньев, который, как ему показалось, не читывал вообще "ни одной театральной пьесы", а только смотрел их на сцене, хвалит автора "на чем свет стоит"; Крюковский краснеет и молчит; Крылов помалкивает и улыбается. А князь Гагарин сердито и с удивлением посматривает на своего приятеля Арсеньева, который осмеливается превозносить пьесу, в которой нет выигрышной роли для Семеновой...
Свою влюбленность в воспетую Батюшковым и другими поэтами "богиню красоты" Екатерину Семенову князь Гагарин, по-видимому, не только не скрывал, но и, где мог, всячески подчеркивал.
Иван Алексеевич, судя по всему, был человеком образованным, по натуре широким, любителем и знатоком всего прекрасного, в том числе и женщин. И азартным, и смелым. На скачках он бесстрашно обгонял самых дерзновенных ездоков, "всех своих состязателей за флагом".
Был Иван Алексеевич на пять лет старше Екатерины Семеновой. Собой не то чтобы красив, но мужествен. Будучи вдовцом, жил отдельно от детей. Судя по Адресной книге 1809 года, он поселился не в собственном особняке, а в доме купца Федорова на правом берегу Фонтанки, в третьей Адмиралтейской части.
Екатерина Семенова, по всей видимости, жила с матерью в другом месте, вполне возможно, что в какой-то квартире, нанятой для нее Гагариным. Во всяком случае, уже тогда по виду своему она производила впечатление, в отличие от многих других актрис, женщины обеспеченной. Увидев Семенову первый раз за кулисами, Жихарев, придя домой, в тот же день, 13 января 1807 года, записал: "...при дневном свете она еще лучше, чем при лампах, и, по-видимому, большая щеголиха. Она была окутана в белую турецкую шаль, на шее жемчуги, а на пальцах брильянтовых колец и перстней больше, чем на иной нашей московской купчихе в праздничный день".
Может быть, все это не говорило еще о ее хорошем вкусе, чувстве меры (они приобретутся потом), но о чувстве болезненного самоутверждения и о своеобразном дерзком вызове - определенно!
Другим ее поклонником, бескорыстным и, как говорится, верным до гроба, был поэт Николай Иванович Гнедич. Всю душу отдал он переводу бессмертной "Илиады" Гомера. А сердце - похожей лицом на греческую камею Екатерине Семеновне Семеновой.
В Петербурге появился он восемнадцатилетним юношей в 1802 году. И определился там на должность писца в Департамент народного просвещения. Прибыл он после обучения в Московском университете, где заслужил прозвище "ходульника", ибо, как поясняет учившийся в том же университете Жихарев, он часто говорил "свысока и всякому незначительному обстоятельству и случаю придавал какую-то важность". Но студенты любили и уважали его, как очень доброго, миролюбивого и умного человека.
"Между прочим, - продолжает характеризовать его Жихарев, - он замечателен был неутомимым своим прилежанием и терпением, любовью к древним языкам и страстью к некоторым трагедиям Шекспира и Шиллера..." А это свидетельствовало о его незаурядном для того времени "хорошем вкусе и больших познаниях".
Судьба была жестока к нему. Будучи высок ростом, обладая стройной, худощавой фигурой, он был обезображен оспой. "Она оставила, - с глубоким сочувствием вспоминал хорошо знавший Николая Ивановича Н. В. Сушков, - глубокие рябины и рубцы на темно-бледноватом лице, которое было, впрочем, оклада правильного и даже приятного, если бы болезнь в детстве не лишила его одного глаза..."
Современники говорили о величавости его движений, пластичности жестов. И чуть иронически отмечали некоторую претенциозность его манеры держаться.
Не благоприятствовала ему судьба и в другом. Родители не оставили ему никакого состояния. "Нищета и гордость, - признавался он своему нежно любимому другу Батюшкову в 1809 году, - вот две фурии, сокращающие жизнь мою и осеняющие мраком скорби".
Алексей Николаевич Оленин быстро сдружился с ним. И во многом помогал ему как своими советами и знанием античного искусства, так и в упрочении его литературного авторитета. Не без помощи Оленина в 1811 году Гнедич был избран в члены Российской академии. Вскоре, как и Крылов, стал он служить в Публичной библиотеке, а также в Государственной канцелярии, которые возглавлял Оленин.
И в доме Алексея Николаевича Гнедич быстро стал своим человеком. А там, по свидетельству современников, "почти ежедневно встречались несколько литераторов и художников русских. Предметы литературы и искусства занимали и оживляли разговор. Сюда обыкновенно привозились все литературные новости...". И театральные. Главной же театральной новостью в годы, о которых идет речь, были выступления Семеновой.
Сразу по приезде в Петербург Гнедич стал восторженным ее почитателем. Он восхищался игрою Семеновой в озеровских трагедиях. Рукоплескал ей и в других, менее достойных ее таланта, ролях... Упорно подыскивал для нее пьесу, которую сам бы считал высоким произведением искусства. И казалось, нашел такую!
Зашедший к Гнедичу 1 апреля 1807 года Жихарев застал его за работой: корпит над "Леаром". Ему показалось очень странным, что Гнедич, будучи таким поклонником Шекспира, вздумал исправлять его. И хотя Гнедич намеренно подчеркивал, что он переводит "Леара" специально для бенефиса Шушерина, пытливый Жихарев сразу смекнул: "Заметно, что заботы Гнедича об одной только роли Корделии для Семеновой".
"Леар" Гнедича, как и Яковлеву, не прибавил лавров Семеновой. Прозаическая переделка пьесы Шекспира привнесла ложноромантическую с оттенком сентиментальности ноту в спектакль. Хорош в ней оказался лишь сам бенефициант.
Что же касается Семеновой в роли Корделии, то она сыграла эту роль всего пять раз. И, как видно, не увлеклась ею. Гнедич же был доволен ее исполнением. Мало того, он посвятил Семеновой восторженные стихи, которые начинались следующим посвящением:
Прийми, Корделия, Леара своего. Он твой: дары твои украсили его...
Правда, Шушерин с обидой рассказывал Аксакову, что Гнедич и ему поднес напечатанный экземпляр "Леара" с надписью:
Шушерин, о прийми Леара своего... Он твой: дары твои украсили его.
Но все-таки строки эти первоначально принадлежали, конечно, Екатерине Семеновой. Ибо имели довольно длинное продолжение, в котором наличествовали и такие возвышенные похвалы:
Могущество даров и прелестей твоих Обезоружило всех критиков моих... Холодная душа не может быть высокой, Все страсти пламенны, рисуемы тобой.
Кончались стихи советом и поучением:
Искусством, опытом, трудом усовершай. Пусть робость, век ползя, во мраке исчезает... Прости, как я тебя некстати поучаю, Люблю твои дары и душу почитаю.
Пройдет немного времени, и Гнедичу достанется радость поучать "богиню красоты" не только в стихах. Он будет ее сценическим наставником. Но это произойдет попозже. Сейчас же, вскоре после постановки "Короля Леара", в декабре 1807 года, Семенова, как помнит читатель, вместе с Яковлевым, Вальберхом и его партнершей танцовщицей Колосовой отправится на почетные для них гастроли в Москву.
* * *
Сначала выехал туда Вальберх. Затем Колосова с Яковлевым. А потом и Семенова - отдельно, получив на прогон тройки 69 рублей 18 копеек и на покупку кибитки - 300.
Из Москвы в Петербург начали поступать сведения. Иван Иванович Вальберх довольно часто писал жене своей Софье Петровне, адресуя письма во вторую Адмиралтейскую часть, в дом театральной дирекции, "что прежде был портного Кребса", под № 197 (то есть в здание на Екатерининском канале театральной школы, где проживала его семья). В письмах его нет-нет да и промелькнет имя Семеновой. Остановиться на таких упоминаниях стоит, ибо они характерны для отношения к молодой актрисе актеров и окружающей среды.
Из писем Вальберха следует: Семенова и Колосова остановились в Москве в доме актера Сандунова, что "за Кузнецким мостом на фонтанах"; живут они вместе; устроились "основательно и хозяйственно". Упоминает Вальберх и о том, как сопровождал он "Катеньку" и Евгению Ивановну Колосову в Оружейную палату, в дансклуб и как "там все за ними ходили", указывая пальцем - "это петербургские, вот Огюст, вот Вальберх, а это Колосова и Семенова...".
В Москве выступила Семенова в пяти постановках. В ролях Ксении ("Димитрий Донской"), Ольги ("Пожарский") и Амалии ("Сын любви") она играла вместе с Яковлевым, Антигоны ("Эдип в Афинах") - вместе с Плавилыциковым. А в "Сумбеке" - с другими московскими актерами.
"Что Семенову здесь хорошо приняли, равно как и Яковлева, правда", - сообщал Иван Иванович в одном из первых писем. В следующем - уже чуть похолоднее: "Про Семенову уже писал тебе. Ее принимали хорошо, но не лучше Яковлева". И добавлял то, что у всех за кулисами было на устах: "Я думаю, что она сама пишет о себе к Гагарину". А еще в одном письме Вальберх совсем сердито ответствовал: "Все здешние получают в письмах из Петербурга, будто только одна Семенова нравилась... то повторяю тебе, что это сущая ложь..."
Из дальнейших писем Вальберха следует: отыграв последний спектакль 15 февраля, Семенова загрустила и объявила - она отправляется в Петербург немедленно, ибо "торопится для того будто, что мать ее больна". "К тому же, - уже с прямой злобой сообщает Вальберх, - зависть ее гложет, что Колосовой князь Долгорукой подарил вчера прекрасную шаль..."
Конфликт между Семеновой и остальными актерами, гастролировавшими в Москве, обострялся с каждым днем. Не имея какое-то время вестей от Гагарина, она металась. Потом получила и успокоилась, решив не торопиться в Петербург. Затем снова занервничала и стала "клясть" все на свете за задержку в старой столице. Вскоре к актерам из Петербурга долетела сплетня, что сестру Семеновой Нимфодору выпускают из школы и что приятель Гагарина граф Мусин-Пушкин берет ее на содержание. В Семенову полетели новые комья грязи. "Этакой пустой твари я другой не знаю", - восклицал Вальберх.
Гастрольные спектакли окончились. Но петербургские актеры должны были дождаться приезда Нарышкина. А когда тот приехал и приказал задержать отъезд из-за плохой погоды, гастролеры вовсе озлились. "Кроме Семеновой... - негодовал Вальберх. - Прежде она больше всех скучала, а теперь Гагарин здесь". "Эта мерзавка, - сокрушался он, - на всех нас жалуется, забыв, что ей довольно чести... обращаясь с ней не как с девчонкой, а как с товарищем".
Но "девчонка" уже знала себе цену. Хотели того другие актеры или не хотели, а ее успехи взбудоражили Петербург. "Здесь все только говорят про Семенову, - отвечала своему мужу Софья Петровна Вальберх, - что она обворожила Москву, так она хорошо играла и была принята чрезвычайно, что даже ее прерывали и не давали говорить..."
То была чистая правда: Семенова действительно обворожила Москву.
* * *
От любителей театральных представлений Колосова и Семенова получили бриллиантовые диадемы. Неприятности, несправедливости, ссоры и склоки во время вынужденного безделья в Москве забылись. По-видимому, успокоилась и Семенова. Приезд в Москву Гагарина и отъезд вместе с ним в Петербург не могли не упрочить ее положение. И чем больше завидовали и судачили на ее счет актеры, тем высокомернее, отчужденнее, отделеннее от их среды становилась она. И тем усиленнее, глубже, серьезнее относилась к ролям. И ревнивее - к своему успеху. С ранних лет она "высоко поняла" предназначение актрисы. Это еще не все осознавали: и ее "кабалеры", или "прозелиты", как называли тогда шумных и бездумных обожателей "очаровательных актрис", и более, казалось бы, объективные зрители, влюбленные не столько в актрис, сколько в сам театр. Среди них был и пытливо всматривавшийся в сценические свершения Жихарев.
"Семенова - красавица, Семенова - драгоценная жемчужина нашего театра, Семенова имеет все, чтоб сделаться одною из величайших актрис своего времени; но исполнит ли она свое предназначение? Сохранит ли она ту постоянную любовь к искусству, которая заставляет избранных пренебрегать выгодами спокойной и роскошной жизни, чтоб предаться неутомимым трудам для приобретения нужных познаний?"
И размышляя, не слишком ли рано она украсилась разными дорогими погремушками, Жихарев еще в 1807 году взвешивал все "за" и "против" ее сценических успехов. "Семенова прекрасно сыграла Моину, бесподобно играла Антигону и Ксению, но этих ролей недостаточно, чтоб положительно судить о решительной будущности ее таланта. Эти роли могла играть она по внушению других: бывали же у нас актрисы, которым, по безграмотству их, начитывали роли, но которые, однако ж, имели успех, покамест не предоставляли их самим себе..."
Скоро, всего через несколько лет, она развеет подобные сомнения. Она достигнет той вершины актерского мастерства, которая докажет ее самостоятельность, неповторимость, всю силу ее трагического дара. Но пока что она по-прежнему будет постоянно, упорно вбирать в себя уроки образованных, преданных искусству учителей. Мудрого, осторожного, безукоризненно преданного театральным музам Дмитревского. И импульсивного, противоречивого, то и дело спорившего со всеми (в том числе нередко и с самим собой), но не менее Дмитревского преданного тем же музам Шаховского.
Последняя фраза Жихарева о "начитывании" ролей имела кое-какую почву и в отношении Семеновой. По воспоминаниям современников, таким способом работы с актерами часто пользовался Шаховской. И Семенова, вполне возможно, на первых порах подчинялась или, во всяком случае, прислушивалась к трактовке им ролей и отдельных реплик. Но с одной поправкой. Их совместные занятия, как правило, корректировал Дмитревский. Исповедуя канонические взгляды на искусство классицистов, он в то же время, как это случилось хотя бы с Яковлевым, не навязывал их, отпуская своих учеников идти другими, более свойственными им путями.
Семенова вскоре воспользовалась этим.
Возвратившись из Москвы в Петербург весной 1808 года, она попала в довольно неприятную обстановку. Еще до отъезда Семеновой в Москву, летом 1807 года, Шаховской взял на роли молодых любовниц, которые по амплуа предназначались ей, еще одну актрису - дочь Вальберха Марию Ивановну, обладавшую приятной внешностью и несомненным даром сценического искусства. Будучи весьма дружен с семейством Вальберха, в котором с ранней юности он был своим человеком, Шаховской искренно, даже чуть влюбленно верил в природные актерские возможности Марии Ивановны. И, познав уже строптивый характер Семеновой, он решил противопоставить ей молодую актрису, более образованную, несомненно умную, добрую, о которой все, кто знал ее, отзывались, как правило, уважительно. Актрису, которая бы во всем шла за ним, чутко прислушиваясь к его порой превращавшимся в неприкрытый фарс поучениям - с передразниванием, плачем, битьем в грудь, восхвалениями, переходившими в непритворное отчаяние от "бездарности" исполнителей.
Шаховской верил, что Вальберхова сможет противостоять и гордой Семеновой, и исторгавшей слезы у зрителей Каратыгиной, которая еще какое-то время наряду с Семеновой продолжала выступать в первых трагедийных ролях.
Ничего хорошего из этого не получилось. Здесь опять стоит сослаться на свидетельство Жихарева (которое, кстати, подтверждают и другие современники): "На долю Вальберховой, в первое время ее вступления на сцену, досталось несколько ролей из прежних трагедий, но впоследствии, когда талант ее более развился, сочинители и переводчики стали назначать ей роли в своих трагедиях, что весьма было не по нраву Семеновой и ее приверженцам".
Вальберховой шикали на спектаклях. Ее хулили в рецензиях. Ей кричали "Не надо!", когда в ответ на рукоплескания появлялась она в конце представлений с Яковлевым. И во всех гремевших тогда спорах прорывалось суждение, высказанное в той или иной форме многими современниками: "К несчастью, большая часть этих ролей была не по средствам этой умной и прелестной актрисы. Так иногда и услуга бывает не в услугу, и князь Шаховской... заблуждался насчет ее дарования".
Театральные страсти нагнетались.
Кончились они полной победой Семеновой. Александре Дмитриевне Каратыгиной пришлось перейти на роли благородных матерей, "по милости г. Шаховского, дабы дать многие роли г-же Марии Вальберховой" (как записал в свой дневник ее муж Андрей Васильевич). Вальберховой вскоре придется временно покинуть сцену, как только уйдет в ополчение Шаховской. А Семенову признают великой актрисой, победившей в 1811 году знаменитую мадемуазель Жорж, которая "сводила с ума" весь Париж.
Но до этого Семенова прошла еще одну ступень обучения. На этот раз - у заслужившего среди блестящих представителей русской литературы, в том числе Пушкина, славу "поэта возвышенного, просвещенного ценителя". У Гнедича.
* * *
"Всякое неразделенное чувство тяжко, как и сама печаль", - признавался Гнедич Батюшкову в письме от 6 декабря 1809 года. А еще через год, 16 октября 1810 года, с некоторым даже упоением сообщал, что, ежели Батюшков приедет в Петербург, остановиться ему у Гнедича можно будет всего "дней на несколько", "хотя бы желалось и по приятности... и по выгодам жизни, но не позволяют обстоятельства", ибо у него, Гнедича, "бывают тайные театральные школы с людьми, которые не хотят иметь тому свидетелей, хотя свидетельства о сем весьма ясны, ибо Семенова в Гермионе превзошла Жорж...".
"Свидетельства о сем" в театральном мире уловили раньше. Еще в 1809 году, в апреле, на репетиции переведенного Гнедичем специально для Екатерины Семеновой вольтеровского "Танкреда" между молодыми театралами Судовщиковым и Жихаревым произошел сенсационный разговор: "Семенова завыла!" Жихарев побежал к Шаховскому, и тот, расстроенный и рассерженный, поведал ему: "Нашей Катерине Семеновне и ее штату не понравились мои советы: вот уже с неделю, как она учится у Гнедича, и вчера на репетиции я ее не узнал. Хотят, чтобы в неделю она была Жорж: заставили петь и растягивать стихи... Грустно и жаль, а делать нечего; бог с ними!"
Мнения о Семеновой в это время резко начинают разделяться. Одни, подобно Жихареву, который в те годы находился в "лагере" Шаховского, считали, что "в ней недостает образованности, простоты сердца и той душевной теплоты, которую французы называют amenite". Другие, подобно Батюшкову и Гнедичу, не только восхищались талантом актрисы, но воспевали и ее ум, душу, сердце. Тесный кружок театралов, одно время соединившихся вокруг "члена театральной конторы по репертуару" Шаховского, начинает распадаться. Наиболее влиятельные и более искушенные, более изысканные группируются вокруг Семеновой и ее нового наставника - Гнедича.
Открытых споров еще нет. Но недовольство друг другом зреет. И доходит до своей кульминации после постановки вольтеровского "Танкреда".
Но прежде чем рассказать о выступлениях Семеновой в роли Аменаиды, остановимся на ее занятиях с высокообразованным, возвышенно мыслящим, явно влюбленным в нее поэтом.
О том, как читал вслух стихотворные произведения Гнедич, имеется много воспоминаний. Одни из них носят чисто описательный характер. Другие уважительно, однако не без иронии, свидетельствуют о том, что в пылу вдохновения педантичный, превосходно воспитанный Николай Иванович мог во время своего чтения взмахом руки сбить лампу со стола, даже кого-то задеть, не заметив этого, не извинившись. В поэзию он был влюблен страстно. И понимал как никто.
Гармонию стиха чувствовал редкостно. Идею, мысль автора доносил до слушателей точно, с необыкновенной силой. Читал чуть распевно, выделяя ритмику стиха, подчеркивая музыкальность поэтических строк. В этом была своего рода искусственность. Но это придавало его чтению значительность.
В те годы он начал работать уже над переводом "Илиады" Гомера, отойдя от александрийского стихосложения к необычно звучащему на русском языке гекзаметру. И каждую написанную стихотворную строку проверял, как говорится, на слух.
Где и в какой обстановке занимался Гнедич с Екатериной Семеновой? В начале 10-х годов он поселился в помещении, принадлежавшем Публичной библиотеке (ныне Садовая ул., 20), заняв небольшую квартиру в левой части последнего, третьего, этажа. Под ней, во втором этаже, тогда квартировал его сослуживец и друг Иван Андреевич Крылов. В этом же доме жил и их общий приятель драматург Михаил Евстафьевич Лобанов.
Переехал Гнедич на Садовую (до этого он ютился, по свидетельству Жихарева, "у Знаменья на самом конце Невского проспекта") чуть позже, чем начал переводить "Танкреда". Но Семеновой еще долго предстоит проходить роли с Николаем Ивановичем. Поэтому прислушаемся к стихотворному описанию жилища на Садовой, сделанному самим поэтом:
Вот скифского певца приют уединенный: Он, как и всех певцов, Чердак возвышенно-смиренный. Не красен уголок, Но видны из него лазоревые своды; Немного тесен, но широк Певцу для песен и свободы.
Окнами его кабинет выходил на Гостиный двор. Внутри кабинета - строгая мебель красного дерева.
Полки с книгами на многих языках. Стены увешаны портретами самых уважаемых и дорогих ему людей: Оленина, Дмитревского, Семеновой. И повсюду педантичный порядок!
На большом, удобном для работы столе разложены гравированные издания, сделанные Олениным эскизы костюмов, декораций, все, что может помочь актрисе войти в античный или средневековый мир. Гнедич щеголевато, не по-домашнему (и в то же время не для выхода) одет, с красиво и строго повязанным галстуком.
Таким заставала Екатерина Семенова своего нового наставника в его "тайной школе". Здесь входила она в мир древних героинь, которых ей предстояло сыграть, внимательно вглядывалась в их позы, одежду, жесты, украшения. Здесь вручал ей Гнедич эскизы Оленина, вложенные в конверт для передачи "кумушке", как называл тот Екатерину Семеновну, будучи крестным ее и Гагарина дочери. "Я все мое знание истощил в сих костюмах", - сознавался Гнедичу Оленин в записке, приложенной к предназначавшемуся актрисе конверту. И, обращаясь к Николаю Ивановичу с просьбой "пакет... ей лично вручить", добавлял: "Между тем если я этой своей безделкой вам сделал удовольствие, то за труд заплачено".
Священнодействуя с актрисой над ролью, Гнедич заставлял ее вникнуть в смысл каждой фразы, особо подчеркивал их музыкальное звучание. Он составлял для нее своего рода партитуру роли, помечая ударные места текста, фиксируя внимание на интонации тех или иных реплик.
Вначале он прочитывал весь текст произведения сам. А потом, подавая реплики, тщательно вслушивался в чтение ею монологов, в модуляцию голоса, переходившего то в шепот, то в угрозу, то в страстное признание или не менее страстное обвинение. Он шел по пути высоко почитаемого им Расина, когда-то расписывавшего подобными ремарками роли любимой своей актрисы Шанмеле.
Во время уроков Гнедича Семенова впитывала в себя то лучшее, что могла взять у него по смыслу, по способу произнесения стихотворных строк. И, проникнувшись его несколько трескучей музыкальной напевностью, оставшись одна, а потом и на сцене, силой своего таланта как бы переплавляла полученные от Гнедича навыки в овеянные собственным чувством образы.
Разумеется, это случилось не сразу. Вначале молодая актриса более робко, более самозабвенно шла за увлеченным ею учителем. И когда впервые на репетиции "Танкреда", которой руководил Шаховской, она попробовала прочесть роль Аменаиды в манере, прививаемой ей Гнедичем, то вполне понятен ужас, который охватил Александра Александровича.
Если учесть, что Семенова только начинала постигать смысл "обучения" Гнедича, то понятна и некоторая напыщенная утрированность исполнения ею в то время роли Аменаиды, о чем столько шумели близкие Шаховскому театралы да и актеры типа Шушерина.
К окончательному постижению роли Аменаиды, которую Екатерина Семеновна очень любила, исполнив на протяжении многих лет 23 раза, она шла постепенно - от урока к уроку на квартире Гнедича, от репетиции к репетиции в труппе, от спектакля к спектаклю.
Но и на первом представлении "Танкреда" она была встречена криками "браво!", гремящими аплодисментами. Можно представить, как обостренно воспринимала молодая актриса такой прием, если учесть, что на спектакле присутствовала приехавшая из Парижа мадемуазель Жорж, которая до этого уже сыграла в Петербурге роль Аменаиды.
* * *
О приезде в Петербург прославленной французской актрисы Маргариты Жозефины Веймер, выступавшей под именем m-lle Жорж, поговаривали уже в 1807 году. Ходили слухи (и по-видимому, небезосновательные!), что во время заключения Тильзитского мира среди важных политических вопросов Александр I и Наполеон I договорились и о другом, более интимном - о приезде в Россию двух очень понравившихся русскому императору на спектакле, устроенном в его честь французским императором, актрис: знаменитой Жорж и молоденькой Бургоэн. Наполеон сделал великодушный жест и разрешил пользовавшейся одно время его особым вниманием (и по-видимому, поднадоевшей ему) Маргарите Веймер отправиться в Московию. Вследствие этого и появилась мадемуазель Жорж в мае 1808 года в Петербурге, но не с ожидаемой русским императором Бургоэн (та приедет в Петербург несколько позже), а в сопровождении другой молодой актрисы - своей младшей сестры, танцовщика Дюпора и старого актера Флоранса.
Французская труппа, которую русские аристократы предпочитали в Петербурге всем другим, обрела с ее приездом особый успех.
Контракт с Жорж был заключен с 7 мая 1808 года (день ее отъезда из Парижа). Первое выступление состоялось на сцене Большого театра 13 июля в роли расиновской Федры.
Жалованье она получила непомерно высокое даже для иностранных актеров - 8000 рублей в год (Екатерина Семенова, которая в 1810 году будет признанной премьершей русской труппы, получит всего 1600 рублей, с добавкой на оплату квартиры 200 рублей и сборов с бенефиса "на свой счет"),
К тому же Жорж сразу после приезда успела получить "взаимообразно", с выплатой двору в течение трех лет, единовременно еще 16 000 рублей. И когда Кабинет императорского двора начал высчитывать какие-то суммы из ее жалованья, то быстро добилась, чтобы счеты эти прекратились. Мало того, Александр I повелел выдать ей еще 16 000, на этот раз уже безвозмездно!..
Поселилась "девица Жорж" (как ее начали называть в рецензиях) неподалеку от Зимнего дворца, в доме Грушкина, выходящем фасадом на Мойку, известном по Адресной книге того времени под № 46 аристократической 1-й Адмиралтейской части (расположенной между Большой Невой и Мойкой). Одевалась она с французским шиком в бесценные соболя, дорогие модные шали (их была у нее целая дюжина!); на руках ее, шее, волосах сверкали бесчисленные бриллианты. Квартиру приказала обставить роскошными вещами. Ела только на драгоценном фарфоре. Имела собственный выезд с превосходной каретой и не менее превосходными лошадьми.
"George была совершенная красавица: правильные, довольно крупные черты ее лица... были подвижны и выразительны, особенно глаза, - описывал ее Аксаков,- высокий рост, удивительные руки, сила и благородство в движениях и жестах - все было превосходно".
Первый выход ее на сцену был полным триумфом.
"Весь зал аплодировал ей как один человек, - высшее общество взапуски с "мужиками" из партера при конце пьесы кричали из всех сил: "Жорж, Жорж!" Это была целая буря браво; венки и цветы сыпались градом".
Если учесть, что ""мужиками" из партера" здесь названа одним из иностранцев менее богатая, но не менее образованная часть публики, которая обычно покупала стоячие места, то истинный успех и первый "приговор" русских зрителей будут еще более весомы.
Жорж покоряла на сцене, царствовала на ней, показывая мастерство гастролерши, какого русский зритель, бывая на французских спектаклях, еще не видел.
А в одной из лож на выступлениях француженки сидела, мучительно стараясь не пропустить ни одного ее жеста, ни одной интонации голоса, та, которая еще совсем недавно в том же богатом позолотой зрительном зале уже успела получить бурное признание той же публики, - Семенова большая.
Она жадно впитывала искусство, прежде неведомое ей. Искусство исполнения трагедий Расина и Вольтера на языке оригинала в современной интерпретации актрисы, которая в полном смысле слова была ее сверстницей (обе родились в одном и том же, 1786 году!).
Сохранилось немало описаний особенностей сценического мастерства Жорж, которым она никогда не изменяла.
Обработав роль, расчленив монологи трагедий, отдельные их куски на резко сменявшие друг друга способы произношения фраз и даже отдельных слов, точно определив сопровождавшие их движения и жесты, Жорж неуклонно следовала за однажды узаконенным ею на всех последующих спектаклях.
"Все ее телодвижения ловки, игривы, как говорят живописцы; словом, для кисти и резца она лучший образец. Голос у нее свободный, громкий, внятный" - таково было первое впечатление петербургских зрителей, увидевших ее в образе расиновской Федры. Многие, правда, "замечали, будто она слишком уж протяжно говорит, даже и поет". Но им объясняли, что "само лицо, ею представляемое, того требовало", что сам Вольтер так диктует: "Фернейский трагик пишет, чтобы отнюдь не произносить стихи как прозу"; к тому же "актриса в некоторых только местах употребляла протяжное произношение, когда того требовало ее положение, страсти, перемена разговора...".
"Что касается до искусства г-жи Жорж, - признавался вначале сам Шаховской, - оно велико. Страсти ей ничего не стоят, душа ее полна огня, лицо есть зеркало души: оно столь же быстро и легко изменяется, как быстры и легки перемены голоса в страстях ее..." Но тут же добавлял: "...во всем этом видно старательное изучение, а не то вдохновение сердца, воспламеняющегося огнем природы и восторгающего души зрителей. В самых исступлениях страстей она никогда не может забыться, что она на театре..."
Мнение Шаховского подтверждали и другие знатоки: Сергей Аксаков, Василий Жуковский и Пимен Арапов. "Игра m-lle George, - утверждал Аксаков, - была положена, так сказать, на ноты, твердо выучена наизусть и с неизменною точностью повторялась всегда... Она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали..." И как бы анатомировал ее игру, раскрывал три зорко подмеченных им приема, к которым постоянно прибегала Жорж.
Для того чтобы поразить зрителя, наиболее воздействовать на него, она выделяла отдельные места, жертвуя иногда смыслом роли, играла на эффектных контрастах. Певуче протянув слабым голосом с закрытыми глазами, в неподвижной позе несколько строк, она, вдруг неожиданно сверкнув выразительными "очами", придавала "громоподобную силу своему голосу", бурный поток слов "вырывался из ее груди", и "неотразимо-ослепительный блеск ее взгляда, сопровождаемый чудною красотою жестов и всей ее фигуры, довершал поражение зрителей".
Так же неожиданно "громкозвучная, певучая и всегда гармоническая" декламация прерывалась, чтобы перейти в многозначительный шепот, которому надлежало "впиться в сердца".
Певучие интонации сменялись скороговорками. Скороговорки перемежались фразами, на которых ставились особые акценты путем расчленения на слоги отдельных слов.
При всем том актриса была все так же царственно прекрасна, ни одна складка ее роскошного наряда не оказывалась измятой, ни одна черта "богоподобного" лица не теряла величественности.
То было четко отработанное мастерство представления. Владея им в совершенстве, актриса могла, не выходя из играемого образа, браниться одновременно со своей прислужницей, стоявшей в кулисе, перебрасываться не слышными в зале фразами с другими актерами, поправлять прическу. Некоторые из театралов ставили ей это в упрек. Другие, наоборот, говорили об этом как о невиданном совершенстве исполнения. Но общий гул восторга окружал Жорж со всех сторон во время первого года пребывания ее в России, служа своеобразным укором русской труппе, в которой, по уверению многих, ничего подобного не было никогда.
* * *
За выступлением в "Федре" последовало исполнение Жорж 30 июля 1808 года роли Аменаиды в "Танкреде". Затем - Семирамиды и Меропы в одноименных произведениях Вольтера, Дидоны в трагедии Лефрена де Помпиньяна... И снова головокружительный успех, забрасывание цветами, гром аплодисментов, бесконечные "браво!".
Жорж уже ждут не дождутся на гастроли в Москве. И она устремляется туда в конце 1808 года навстречу новому триумфу, новой славе!
Но в это время начинается более трезвое осмысление секрета ее таланта. "В продолжение всей роли Федры, - размышляет Шаховской, - я видел все великое искусство актрисы... Сильные роли цариц к ней ближе идут, нежели страстные и нежные роли любовниц… (...) ...Что же касается роли Аменаиды, то здесь открылись все ее слабости". Во многих местах он не ощутил того "особенного духа", который Вольтер в "Танкреде" дал характеру Аменаиды. Разумеется, отмечает он, "искусство г-жи Жорж достойно истинного уважения; но если бы она для великих своих дарований требовала более помощи от природы, нежели от учения, то бы игра ее имела ту благородную простоту, которая, истекая прямо от души, проникает душу зрителя".
И, предостерегая русских актрис, чтобы они слепо не подражали "великолепной" Жорж, Шаховской надеется, что Семенова под его руководством сумеет противостоять той. Но Семенова уже пошла "на выправку" (как язвительно определял Яковлев) к Гнедичу, который именно в это время и перевел для Семеновой "Танкреда".
Шаховской, в прямом смысле слова, плакал, в очередной раз бил себя в грудь, жалуясь каждому на измену Семеновой, на то, что она теперь в подражание Жорж начнет "выть", выпевая стихи, лишая их "благородной простоты". Но Семенова, поддержанная всем своим окружением во главе с И. А. Гагариным и А. Н. Олениным, готовя, как уже говорилось, роль Аменаиды под руководством Гнедича, пока что овладевала лучшим, чем славилась Жорж, - музыкальной выразительностью произнесения стихотворных строк и благородной гармонией жестов и движений. В то же время, пусть еще не всегда умело, в чем-то она уже противостояла знаменитой французской актрисе, проявляя собственную индивидуальность.
По всему театральному Петербургу разносились сенсационные слухи, чуть ли не заключались пари.
- Как можно смотреть Семенову в роли Аменаиды после mademoiselle George! - восклицали одни.
- Как можно ей сравняться с mademoiselle George! - вторили им другие.
- Госпожа Семенова отважилась бросить наставнице своей перчатку! - удивлялись третьи.
И все вместе сгорали от любопытства:
- Что происходит в мыслях и сердце знаменитой амазонки на поприще Мельпоменовом?
А амазонка меж тем, идя вслед за Жорж в великолепном умении декламировать роль, в абсолютной свободе владения мимикой, жадно схватывала слова Гнедича и о недостатках прославленной актрисы: "Переломы стихов часто у нее без нужды... беспрестанные переходы голоса даже были скучны. Она... жертвовала целым для блестящих минут; никогда не забывала, что она актриса, и вообще в игре своей имела пороки, весьма близкие к шарлатанству, которое, беспрестанно заботясь о плесках, ослепляет на минуту, но скоро становится видимо".
Учитель был требователен, педантичен и строг. Ученица на занятиях с ним послушна и внимательна. Он вел ее к постижению замысла Вольтера, говорившего о своей Аменаиде как о "предельно нежной и решительной девушке, к тому же еще в большей мере - несчастной...". И она пыталась максимально приблизиться к требованию фернейского трагика.
Всего этого не было в исполнении Аменаиды величественно-надменной, блестяще декламирующей стихи Жорж. И все это надеялся увидеть превосходно чувствующий классическую драматургию, глубоко образованный Гнедич. И вот наступило время "сценического турнира" французской и русской актрис.
В марте 1809 года вернувшаяся из Москвы Жорж выступила вторично на подмостках Большого петербургского театра в "Танкреде".
Спектакль французской труппы шел на фоне случайных, написанных для других спектаклей декораций. Костюмы представляли собой причудливую смесь античных одежд, приспособленных к пышной моде конца XVIII века. На сцене царствовала картинно-прекрасная Аменаида - Жорж, одетая в атласное белое платье, украшенное золотым шитьем, с накинутым белым покрывалом, вся в жемчугах. Она не меняла костюма даже тогда, когда в конце трагедии ее героиню выбрасывали в оковах из-за кулис на сцену для суда.
Жорж по-прежнему затмевала блеском отточенной игры остальных актеров. Все взоры зрительного зала были прикованы к ней. Но где же борьба "чувств пламенной и несчастной любовницы?! - начинали вдруг сомневаться наиболее зоркие из зрителей, выходя из магии ее игры после спектакля. - Почему с таким равнодушным спокойствием произносит она имя так страстно и нежно любимого ею Танкреда?..". Где исступление, смешанное с нежностью?
Подобные размышления начинают мелькать в рецензиях еще до постановки русского "Танкреда". Все ждут появления на сцене "нашей Аменаиды".
8 апреля 1809 года Екатерина Семенова впервые выходит в "Танкреде" на подмостки того же Большого театра.
Но как преобразилась сцена в русской постановке вольтеровской трагедии! Окружение Семеновой постаралось выпустить ее на "турнир" с покорившей Петербург Жорж более чем достойно. Спектакль идет в грандиозных перспективных декорациях Гонзаго. "Костюмы русских актеров, - с удовлетворением отмечал журнал "Цветник",- действительно сходны с бывшими у сицилианцев". Они изготовлены по эскизам такого знатока, каким является Оленин! На всем представлении лежит печать строгого вкуса, присущего его создателям.
Между тем по залу разносится слух: в одной из лож сидит Жорж. С непринужденным видом актрисы, которая знает себе цену, она ожидает открытия занавеса.
Наконец на сцене появляется Аменаида - Семенова. В ответ на сообщение отца о том, что все права ее возлюбленного рыцаря Танкреда вручены могущественному Орбассану, которого теперь ей прочат в женихи, раздается ее первая реплика.
И столько нежности, любви слышится в ее голосе, когда упоминает она имя Танкреда, в отличие от холодного удивления в той же сцене Аменаиды - Жорж.
Аменаида Семеновой одета просто. В скромном платье, с закрытой, без украшений, шеей, лишь с небольшим венчиком на голове, она - воплощенная девичья скромность, сама покорность. Но события развиваются с нарастающей быстротой. Она оклеветана перед любимым, вынуждена идти на ненавистный брак. От сцены к сцене растет ее протест, раскрывается страстное чувство к Танкреду, возрастает неприятие лжи и зла. Она с такой болью слышит поношение возлюбленного отцом, что слова, произнесенные Семеновой шепотом, - "Нет боле сил", - воздействуют на зрителя куда сильнее, чем полное пафоса то же восклицание Аменаиды - Жорж. Да и вся игра Семеновой согрета таким глубоким чувством, такой гаммой связанных между собой переживаний, неотделимых друг от друга, что декламационная основа разработки роли Жорж теперь кажется слишком рациональной. Мастерские монологи француженки восхищали неожиданными контрастами. Произнесение их Семеновой трогало, заставляя сопереживать нарастанию злосчастий ее героини. И хотя, по-видимому, у Семеновой, только что начавшей идти по новому сценическому пути, предуготовленному ей Гнедичем, явно чувствовалось и акцентированное выпевание стиха, и утрирование (которого справедливо боялось окружение Шаховского), и явное подчинение методично расписанным Гнедичем по всей роли изменениям тональности, но все это, согретое проникающим в душу зрителей контральтовым голосом актрисы, ее мягкой женственностью движений, страстным пылом внутренних переживаний героини, умением жить в образе, а не "представлять", не помешало ей стать победительницей в начавшемся поединке с Жорж.
Приговор был единодушен: в "Танкреде" Семенова превзошла казавшуюся непобедимой Жорж.
Правда, признавая эту победу, многие поклонники таланта французской актрисы утверждали, что роль Аменаиды вообще-то слабее других ее сценических свершений, что сила ее - в раскрытии волевых, могучих характеров, "что выражение сильных страстей свойственнее сей актрисе, нежели томное, нежное, горестное изражение чувств", коими обладает героиня "Танкреда"... И все же удар был нанесен. Что и позволило Гнедичу с полным основанием предпослать изданному им переводу "Танкреда" портрет Семеновой, созданный Кипренским в несколько обобщенной манере, с восторженным мадригалом:
Любимица бессмертной Мельпомены! В России первая успела ты открыть Искусство тайное, как сердцу говорить; Твои черты - потомству драгоценны.
* * *
Турнир премьерш французской и русской петербургских трупп продолжался в течение трех лет, до самого начала 1812 года. Зрители поделились на "жоржевистов" и "семеновистов". Шквал аплодисментов одних сопровождался свистом других. После спектаклей дело доходило до взаимных оскорблений и чуть ли не до рукопашных схваток. Пока не наступил тот миг, когда сама Жорж после московских гастролей в 1811 году обеих актрис вынуждена была признать себя в исполнении ими одних и тех же ролей побежденной.
За это время Семенова и Жорж сыграли в 1810 году Гермиону в "Андромахе" Расина, а в 1811 году Меропу в одноименной трагедии Вольтера. И хотя Жорж имела огромные преимущества, произнося оригинальный классический текст на языке подлинников, а Семенова вынуждена была играть в куда более тяжеловесных, а порой и труднопроизносимых переводах Д. Хвостова и С. Марина, зрительское признание было на стороне русской актрисы.
Неистовая в своей любви и ревности дочь спартанского царя Менелая Гермиона, мало того что была одной из любимых ролей Жорж, она считалась в ее исполнении недосягаемой. Психологическая предпосылка развития роли была сложна. Брошенная своим возлюбленным Пирром ради троянки Андромахи Гермиона толкает безнадежно влюбленного в нее Ореста на преступление и ненавидит его за это. Обрушив на него после совершенного им убийства Пирра проклятия, назвав его, послушного исполнителя ее преступных желаний, "предателем" и "злодеем", она за сценою кончает с собою, "в себя вонзая меч".
Верная себе Жорж страстной декламацией, неожиданными контрастами, подчеркнуто величественными даже в гневе движениями вызывала ужас, содрогание зрителей от злобной ревности Гермионы. С отчаянием и яростью восклицала она, узнав об убийстве Пирра Орестом: "Он мертв?.." В своей нечеловеческой жестокости, уязвленном самолюбии Гермиона в исполнении Жорж представала характером цельным, в ней не было места сомнениям, колебаниям. За измену она беспощадно карала Пирра. И так же беспощадно кончала с собой, не будучи в силах жить без него.
Семенова создавала совсем другую Гермиону. Она акцентировала в роли любовь, всепоглощающую, ослепленную ревностью. В возгласе Семеновой - Гермионы: "Он мертв?.." - не было ярости. Было безнадежное отчаяние от содеянного в безумном порыве. Тем, как произносила это Семенова, она, по словам рецензентов, "разрывала сердца зрителей". В упреках Гермионы Оресту она выделяла не то, как посмел он последовать ее повелениям, а то, "как мог любовнице он верить исступленной?". Смертью своей она карала и себя, и его прежде всего за преступление закона человечности.
"Роль Гермионы,- утверждал журнал "Цветник",- может почесться одною из самых труднейших ролей... Вот роль, в которой надобно смотреть г-жу Семенову... Никогда игра ее не была так обдуманна и натуральна... Она была тем, чем должна быть Гермиона. Мы видели в сей роли г-жу Жорж, восхищались ее игрой, но еще более восхищались игрою г-жи Семеновой, которая почти везде превзошла ее".
Упоенный исполнением Семеновой роли Гермионы автор перевода "Андромахи" граф Хвостов восклицал: "...сам Аполлон учит ее!" На что не менее упоенный игрой Семеновой Гнедич не без самодовольной лукавости отвечал ему:
Известно, граф, что вам приятель Аполлон. Но если этот небожитель (Знать есть и у богов тщеславие свое) Шепнул вам, будто он Семеновой учитель, Не верьте, граф, ему: спросите у нее.
Николай Иванович продолжал давать уроки своей талантливейшей ученице в "театральной школе" на дому. И результаты их сказывались постоянно.
Дали они себя знать и в роли вольтеровской Меропы, впервые сыгранной Семеновой 30 октября 1811 года на сцене Большого театра. В ней русская актриса вновь соревновалась с блистательной француженкой. И вновь победила ее.
С высоким трагическим пафосом играла Жорж роль гордой и непримиримой властительницы Меропы, никогда не забывавшей свое царское происхождение. Патетический возглас: "Que vous faut-il de plus? Merope est a vos pieds!" ("Чего вам более? Меропа у ваших ног!") - становился центром роли в исполнении Жорж.
Совсем иначе играла эту роль Семенова. Впервые выступив в роли зрелой женщины (до этого Семенова играла роли молодых "любовниц"), она сумела с такой силой выразить охватившие Меропу чувства матери, забывшей про свой сан, трепещущей лишь за жизнь единственного оставшегося в живых сына, что зрители вскакивали с мест, восклицая: "Боже мой! Как может искусство так близко подходить к натуре!"
Жорж поражала филигранной отделкой декламаторской сути роли. Семенова - "натуральностью", одухотворенностью актерской игры. Жорж особенно была хороша в выявлении темных чувств своих героинь: злобной ревности, гордой мести. Семенова как бы высветляла образы тех же героинь.
После гастрольных выступлений в конце 1811 и в начале 1812 года в Москве зрители окончательно отдали предпочтение русской актрисе. О своем поражении в ролях Аменаиды, Гермионы и Меропы Жорж говорила не без ревности, сознаваясь, что порой "деревянит" роли. Не без бравады Жорж подчеркивала и другое: она не любит и не умеет играть в прозаических трагедиях. "Вот и еще верх надо мною!.. Проза не идет у меня с языка, и я теряюсь". Говорила так Жорж неспроста. Поборники столь высоко ценимой, канонически узаконенной классицистской трагедии считали, что она должна быть обязательно стихотворной. Жорж превосходно это понимала... и, разумеется, лукавила.
Семенова во время пребывания Жорж в России сыграла и Корделию в "Леаре", и шиллеровскую Марию Стюарт, и Офелию в "Гамлете". Тяжеловесные русские переводы-переделки не доносили величия шекспировских и шиллеровских стихотворных строк. Но и за игру в них рецензенты пели ей дифирамбы:
"Самый хладнокровный зритель верно проливал слезу в последнюю минуту расставания Марии с любезным ее сердцу и с жизнью, самый бесчувственный восхищался неподражаемости искусства актрисы, занимавшей роль сию... Зрители были растроганны игрою ее, и большая часть из них плакала".
"Жорж еще ни в одной трагедии не была так хороша, как Семенова в "Гамлете"; глядя на нее, все зрители были очарованы, не понимали себя, и "браво!", сопутствуемое рукоплесканиями, раздавалось беспрестанно".
Возвращение Семеновой в марте 1812 года из Москвы в Петербург после одновременных там с Жорж гастролей было встречено общим восторгом. Первенство ее среди актрис русской и французской петербургских трупп теперь не оспаривали.
* * *
После вторжения Наполеона в Россию французская петербургская труппа продолжала играть, подстраиваясь к патриотическим вкусам русских. Но успеха не имела. По свидетельству А. Е. Асенковой, как и многих других современников, в то время "французский театр в Петербурге был постоянно пуст, а русский набит битком".
Александра Егоровна Асенкова, только что вступившая в русскую труппу, выразилась, правда, не очень точно, ибо специального здания "французского театра" тогда в Петербурге не существовало. После пожара в новогоднюю ночь 1811 года Большого Каменного театра все петербургские труппы сгрудились на одной сцене - бывшего, как его называли, театра Казасси, стоявшего у сада около Аничкова дворца.
Построен он был еще в 1801 году на деньги содержателей итальянской труппы. Но через два года его забрала дирекция придворных театров и, возместив убытки антрепренерам Астарите и Казасси, взяла их труппу в свое ведомство.
На сцене деревянного театра у Аничкова дворца и раньше выступали не только итальянцы, но и русская и французская труппы. Случалось это периодически. Теперь же, с 1811 года, в этом сравнительно небольшом театре (хотя, по воспоминаниям очевидцев, порою на сенсационные спектакли туда набивалось до полутора тысяч зрителей) шли основные представления всех императорских трупп.
Он был скромен на вид. Проектировал его одни из талантливейших архитекторов Винченце Бренна. Но создать воистину целое, гармоничное по замыслу здание ему не удалось по причине того, что его обязали встроить театральное помещение в ранее стоявший здесь павильон архитектора Старова, который завершал территорию Аничкова дворца у нынешней площади Островского.
Частично разобрав стены павильона, Бренна как бы втиснул в него зрительный зал, разделив перегородками остальное помещение на два этажа и поместив в них лестницы, фойе и служебные помещения. Пристроив отдельно сценическую коробку и уборные для артистов, архитектор создал сценическое помещение с неплохой акустикой, с вместительным, разделенным на ярусы, зрительным залом.
Кроме Малого театра в распоряжении театральной дирекции имелся еще один - Новый, в просторечии известный как Кушелевский, театр на Дворцовой площади, там, где позже было построено Росси близлежащее к Невскому проспекту крыло Главного штаба. "Театральный подъезд приходился против главных ворот Зимнего дворца",- указывает Петр Каратыгин его местоположение.
Еще во времена Павла играла в нем немецкая труппа. Потом немецкий антрепренер Мире прогорел, и зрительный зал в доме, принадлежавшем одно время Кушелеву, был причислен к сценическим площадкам дирекции императорских театров. В нем наряду с немецкими выступали изредка и русские актеры. С 1811 года они стали играть там чаще. Чуть позже, с 1813 года, когда Шаховской организует выступления молодых актеров из числа старших воспитанников, для того чтобы они набирались непосредственного сценического опыта, спектакли их будут смотреть именно в этом здании.
В то время, когда здесь начал свою сценическую карьеру Петр Каратыгин, Кушелевский театр наводил уныние: "Зрительская зала... была очень некрасива: закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, на сцене ветхие декорации и кулисы, в коридорах повсюду деревянные лестницы, в уборных постоянная копоть от неисправных ламп, наполненных чуть ли не постным маслом..."
А было время, когда здесь сверкали огни многочисленных свечей в богатых бронзовых канделябрах и блистающих хрустальных люстрах, освещая с неимоверной роскошью декорированные и меблированные залы, и среди них те, которые предназначались для театральных представлений. Особняк, в котором они располагались, принадлежал в конце XVIII века одному из самых любимых Екатериной II фаворитов - А. Д. Ланскому, который скончался в тридцатилетнем возрасте в 1784 году. Позже, уже в 1811 году, его помещения - все, кроме театральных, - приобрел Главный штаб. В театральных же продолжались представления актеров, устраивались концерты и маскарады. По существу, со времен Павла до начала 20-х годов XIX века, когда Росси в основном построил новое здание Главного штаба, вобравшее в себя со стороны Невской першпективы наряду с другими и бывший дом Ланского, сценическая жизнь в нем не замирала.
После пожара Большого театра она там, как и в театре у Аничкова дворца, значительно оживилась. Способствовало тому само время.
По сообщению журналов, в 1812 году все виды театрального искусства "соревновались ежедневно в возбуждениях в зрителях силы народных чувствований". Много сил отдавала этому и Семенова.
Вместе с Яковлевым с увлечением, без передышки играла она теперь и Ольгу в "Пожарском", и Ксению в "Димитрии Донском", и другие подобные роли в ранее поставленных, но приобретших новый патриотический смысл спектаклях. Семенова выходила на сцену в русском костюме, плясала и пела в дивертисментах, даже в операх-водевилях - хотя бы в таком, сочиненном Шаховским, как "Казак-стихотворец", лихо исполняя в нем куплеты казачки Маруси:
Коли на войне вiн ляже, Пуля серденько пробьет, Умиравши, видно, скаже: Милая за мне умрет.
В бурном экстазе зрители собирали пожертвования для ополченцев. Одетый в поношенную шинель чиновник бросал на сцену тощий бумажник, крича: "Возьмите и мои последние семьдесят пять рублей!"
Рыдал давно не выступавший Дмитревский, вызванный всеобщими рукоплесканиями, после окончания патриотической драмы "Всеобщее ополчение", в которой он сыграл старого унтер-офицера.
Узнав об удачном сражении своих соотечественников на поле брани, врывалась из-за кулис во время идущего спектакля Семенова, чтобы ото всего сердца крикнуть вожделенное слово: "Победа!!!"
* * *
Она теперь царила на сцене. Весной 1812 года была уволена Вальберхова. Каратыгина покорно играла роли благородных матерей. И навсегда исчезла из Петербурга Жорж. В конце 1812 года французская труппа покинула Петербург.
Имя Семеновой гремело наряду с именем Яковлева. Но играть им друг с другом становилось все труднее.
Помимо личной неприязни главная беда их как партнеров состояла в разных жизненных и творческих верованиях, в противоположности их натур. Яркая, бурная, "блуждающая как комета", непредсказуемая на спектакле игра прославленного партнера нередко мешала Семеновой. Печать "вкуса и гармонии" лежала на ее сценических созданиях. Игра ее была вдохновенна, но точна, в рамках тщательно продуманного анализа роли. Яковлев никогда не знал, как будет играть "завтра". Семенова знала.
"Игра его, - утверждал Гнедич, говоря о Яковлеве, - зависела единственно от силы и расположения духа, а не от идей души, проникающей в тайны искусства..." Игра же Семеновой "озарена свершением искусства", трагедийные образы, подчеркивал он, как и Пушкин, "сотворены" ею!
Поэтому, когда на театральном горизонте появился молодой человек из мелкой чиновничьей среды, приятной наружности, с неплохими манерами и актерскими данными, отысканный неугомонным Шаховским, окружение Семеновой сразу обратило на него внимание. Сам князь дальновидно наметил его в преемники Яковлева.
- Да это сущий клад, сокровище! Вот увидите, что из него выйдет.
- А выйдет то, что бог даст, - хладнокровно отвечал ему Иван Андреевич Крылов.- Малой читает мастерски, слова нижет как жемчуг, да надобно подождать, чтоб он их прочувствовал.
Поначалу "малой" и не получил первостепенных ролей. Их еще продолжал играть Яковлев. А вот не очень большую, но очень любимую Яковлевым роль во "Влюбленном Шекспире" вскоре сыграл. И сыграл ее в паре с Семеновой так хорошо, что заслужил похвалу самого Яковлева, который, по свидетельству Жихарева, "был чужд зависти, принимал радушное участие в успехах молодых талантов и готов был уступить им роли, если они находили их по своим силам".
Пройдет немного времени, и с 1815 года молодой человек из мелких чиновников будет основным партнером Екатерины Семеновой, превратившись из сенаторского регистратора Якова сына Григорьева в актера императорского театра Брянского.
* * *
После победы русских в 1812 году, как верный, мгновенно реагирующий барометр на общественные процессы, театр является постоянным предметом обсуждений да своего рода и рупором идей будущих декабристов. В центре их внимания на подмостках сцены становится Екатерина Семенова. Ранний "Арзамас", более поздняя "Зеленая лампа", "Вольное общество любителей российской словесности" - на их заседаниях (как и других прогрессивных общественных объединений молодых людей того времени) слышится ее имя, говорится о ее творениях и ее значении для российской сцены.
Сентиментальная чувствительность перестает волновать закалившееся в кровавых сражениях молодое поколение. Высокопатриотический порыв, объединявший и актеров и зрителей во времена Отечественной войны, быстро проходит в трезвом осмыслении происшедших военных и послевоенных событий. Высокое, в чем-то даже "максималистское", романтически-приподнятое и одновременно граждански-цельное трагедийное искусство Семеновой стремительно оттесняет всех первостатейных, в том числе и Яковлева, актеров. После 1813 года гордое прозвище Мельпомена свидетельствует о ее всеобщем признании как "единой и неповторимой актрисы".
Более остро, смело и ярко звучат теперь речи ее нежной Аменаиды в переделанном заново Гнедичем "Танкреде" Вольтера. В новом виде вся трагедия Вольтера приобретает резко антитиранический характер, свойственный преддекабристским годам. Со всей пылкостью и ясной определенностью произносимые Семеновой слова Аменаиды: "Тиранство, наконец, рождает непокорство. Трепещешь?" - придают подчеркнуто свободолюбивый смысл конфликту дочери и отца.
26 января 1814 года Екатерина Семенова берет на свой бенефис последнюю трагедию Расина "Гофолия", которую Вильгельм Кюхельбекер считал "совершеннейшим творением".
Переполненная ветхозаветными намеками о кровопролитной борьбе среди потомков колена Давидова, уснащенная труднопроизносимыми славянизмами, в архаично звучащем переводе Хвостова, трагедия была неимоверно тяжела для зрительского восприятия. И все же в исполнении Семеновой, играющей властолюбивую, погрязшую в кровавых преступлениях царицу Гофолию (которая приказала умертвить и истребить все родственное себе Давидово племя), она звучала злободневно. Извечная тема борьбы за единовластие и попытки удержать его через потоки человеческой крови получала в воплощении актрисы углубленно-трагедийное звучание. Злобная, фанатичная вера ее героини, утверждавшей во имя беспрекословного себе подчинения дикое право казнить ни в чем не повинных подвластных ей людей, вызывала ужас и ненависть. Но реакция зрителей не была бы столь сильной, если бы, верная своему таланту, актриса не приоткрывала в Гофолии чувство страха за содеянное, прорывающиеся даже у нее муки совести.
Рассказывая о привидевшемся ей во сне "чистом отроке", которого она, как и остальных своих внуков, когда-то приказала умертвить, Семенова раскрывала не только потрясающий ужас злодеяний, но и трагедийную участь его носителей.
"Гофолия" восторженно принималась молодыми пылкими вольнодумцами. К ним принадлежал и Павел Катенин, бесстрашно воскликнувший в сочиненном им гимне: "Коль нас деспотизм угнетает, мы свергнем и трон и царей!" В будущем он сделает новый перевод "сна Гофолии". А пока что предназначает Семеновой роль в только что переведенном им еще одном произведении Расина.
Роль женственной Эсфири в одноименной трагедии, поставленной на русской сцене 3 мая 1816 года, была во всем противоположна роли злобной Гофолии. Отталкиваясь от древнего библейского мифа о верной дочери иудеян, спасшей от гибели свой народ, который находился под властью грозного персидского царя Артаксеркса, Расин создал образ трогательно-нежный и в то же время мужественный. Такой Семенова и играла Эсфирь: женщиной, готовой идти на подвиг во имя облегчения судьбы угнетенных "под ярмом гонителей закона" и кротостью покоряющей их повелителя. Преданной бескорыстному чувству к нему. И скорбящей о тяжкой доле своих соотечественников.
Глубокий, "густой" голос Эсфири - Семеновой молил о милости. И пророчески вещал о божьем искуплении. "В ее устах понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня", - восхищался увлеченный ее гением Пушкин. (Хотя сами-то стихи эти считал "отверженными вкусом и гармонией".)
Архаическая "славянщина", которую отмечали и другие ценители перевода Катенина, растворялась в общей приподнятости произнесения текста Семеновой, в торжественно усиленном политическом смысле происходящего на сцене, в "скорбной и негодующей патетике" трактовки произведения Расина и самим Катениным, и исполнительницей главной роли.
Еще более восторженно восприняли зрители другую роль Семеновой - Клитемнестры в расиновской "Ифигении в Авлиде", переведенной на русский язык близким приятелем Гнедича М. Е. Лобановым.
Ролью Клитемнестры Семенова как бы продолжила свое соперничество с еще не забытой в Петербурге многими "сравнителями" дарования обеих актрис Жорж.
"Мне сказывали, - сообщал Гнедич, - что Семенова долго не решалась играть роль Клитемнестры, именно боясь этих сравнителей. Вот черта истинного дарования, вот робость - всегдашний удел талантов".
Не без помощи Гнедича нашла она новое осмысление одного из сильнейших образов Расина, отличное от традиционного на французской сцене исполнения этой роли не только великолепной Жорж, но и великой Дюмениль.
Если Жорж, следуя за Дюмениль, играла прежде всего надменную, самими богами возвышенную над окружающими жену "царя царей" Агамемнона, то Семенова вновь с особой силой на протяжении всей трагедии раскрывала прежде всего муки матери, дочь которой самими богами приговорена к смерти. Жорж все силы берегла для того, чтобы в самом конце трагедии подчеркнуть, что и величавые царицы превращаются в подобие львиц, когда хотят погубить их детище. Семенова не щадила себя.
"Вся речь Клитемнестры, - описывал ее исполнение Гнедич, - изливалась быстрым потоком... Видение дочери, приносимой в жертву... было пред ее очами: зрители забывались, но когда свирепая мать, с бледным лицом, с дрожащими устами, подходит к Агамемнону:
Безжалостный отец, свирепейший супруг, Ты должен вырвать дочь из сих коварных рук!
Когда в исступлении сердца, бросаясь на дочь и обхватывая ее обеими руками, криком души вызывает она жестокого отца на страшную борьбу с матерью:
Приди - и не страшись ни вопля, ни проклятий, Дерзни исторгнуть дочь из матерних объятий.
Тогда, мой друг, что делалось с зрителями, что делалось с театром, я не помню: - я не был зрителем - я не был в театре..."
Гнедичу вторил другой критик - И. Чеславский: "Сии слова укрепили сердце мое: таково действие восторга в высочайшей степени!"
К их мнению присоединялись почти все видевшие Семенову в роли Клитемнестры. "Она одушевила измеренные строки Лобанова". Одушевила... В устах Пушкина, воспевавшего "душой исполненный полет" в русском искусстве, это звучало высшей похвалой. Она "оправдала чувства Расина...". В устах друга его Плетнева - безоговорочным признанием гражданственного звучания игры русской актрисы.
Жорж оттеснила своей блистательной игрой Клитемнестры изящную Бургоэн, игравшую на петербургской французской сцене заглавную роль. Семенова в той же роли Клитемнестры затмила теперь всех своих партнеров, в том числе и вернувшуюся на подмостки в 1815 году Марию Вальберхову, которая исполнила роль Ифигении.
Еще большее признание принесла Екатерине Семеновой роль античной героини в трагедии Лонжепьера "Медея", сыгранной уже в 1819 году. На французской сцене "Медея" имела давнюю традицию исполнения. Еще в 1790 году Карамзин, будучи в Париже, увидев в роли Медеи знаменитую Рокур, был потрясен "ее красотой без нежности, суровостью в самой улыбке, голосом твердым и проницательным, одним словом, Медеей". Именно такая трактовка, казалось бы, отвечала сюжету древнего мифа, положенного в основу трагедии Лонжепьера, в котором колхидская царевна Медея, когда-то всё отдавшая за любовь пришельца Язона, жестоко расплатилась с ним за его измену. Из страстно любящей женщины-полубогини она превратилась в фурию, не ведающую пощады.
Иную, куда более многогранную Медею увидели русские зрители в исполнении Семеновой, игравшей, кстати, в одном из тех переводов трагедии, от которых, по словам Пушкина, "каждый отец отрекается поодиночке". ("Медею" для нее переводили: С. Марин, А. Дельвиг, Н. Гнедич и П. Катенин.)
"Медея при всех ее преступлениях остается великой, достойной удивления женщиной",- утверждал Шиллер. Написанную в духе эпигонского классицизма трагедию Лонжепьера актриса сценически поднимала именно до таких своего рода романтических высот.
Ее Медея была горда тем, что, спасши Язона и его спутников, помогла добыть им золотое руно. Но она была горда и подвигнувшим ее на это высочайшим чувством любви, какая редко приходится на долю людей. Медея Семеновой была твердо уверена: не отцу соперницы Креузы, коринфскому царю Креону, ее судить! С особой силой звучали в устах актрисы строки, привнесенные в перевод второго действия трагедии Дельвигом:
Но кто тебе вручил права для угнетений Тираны подданных насилием разят; Цари, не осудив, виновных не казнят...
Поняв, что ни грубый деспот Креон, ни мелкий в своих поступках Язон не пощадят ее богоподобной любви, она шла на изощреннейшую месть, погубив сначала Креузу, а потом собственных детей.
"Кто же не почувствовал холодного трепета, когда исступленная Медея говорит Язону: "Смотри! Вот кровь моя и кровь твоя дымится", - восклицал один из рецензентов. - Я, кажется, видел эту кровь на кинжале".
"Зрители, даже самые хладнокровные, были поражены величайшим ужасом, - вспоминал другой. - Поистине, это было пес plus ultra (Предел возможного (лат.).) в искусстве декламации".
* * *
Медею Семенова сыграла уже на сцене отстроенного после пожара архитектором Модюи Большого театра на Театральной площади. Она и раньше уже выступала в нем. Как возвещала на фронтоне переделанного здания надпись, возобновлен он был в 1817 году. Открылся необыкновенно пышным оперно-балетным спектаклем "Аполлон и Паллада на Севере", который вызвал немалое любопытство зрителей грандиозностью постановки. Потом восхитил балетом Дидло "Зефир и Флора". Затем снова удивил богатством сценической машинерии, живописной роскошью декораций, балетными сценами представления шиллеровской трагедии в переводе А. Жандра "Семела, или Мщение Юноны"... В музыкально-драматических спектаклях Семенова исполняла заглавные роли ступающих по сцене величественных богинь, пленяя царственной красотой, строгим профилем ожившей камеи. Впервые попробовала она сыграть и Эдельмону в "Отелло" - коронном спектакле только что скончавшегося Яковлева. Но, видимо, не нашла себя в ней. Из всех сыгранных Семеновой спектаклей после открытия заново отстроенного театра лишь Медея, премьера которой состоялась 15 мая 1819 года, стала подлинным, самым высоким ее торжеством.
Играть на сцене этого театра стало как никогда престижно. И нелегко.
Перестроенный Модюи Большой театр поражал роскошью. Богатство обитых голубым бархатом кресел. Отделанные под мрамор бесчисленные колонны. Множество разнообразных скульптурных деталей, с преобладанием всевозможных венков. Пять ярусов в зрительном зале с нарядно драпированными ложами. В центре верхних ярусов - амфитеатры и галереи. По бокам зрительного зала - встроенные помещения для маскарадов. Двести тридцать два кресла. Двадцать четыре ложи, окружающие партер. Широкие двери на лестницах. В центре, у царской ложи, находящейся на уровне первого яруса, как бы поддерживающие его четыре мощных фигуры с венками и вензелями. Двухъярусная бронзовая огромная люстра. На колоннах также бронзовые бра. Причудливая лира на тяжеловесном занавесе. И повсюду слепящее сверкание золота.
Все это ошеломляло, изумляло, не могло не восхищать всякого, кто входил после ремонта Большого театра в его зал. Но все это, как ни парадоксально, начинало мешать. И восприятию зрителя. И игре актеров.
Перенасыщенность архитектурных и скульптурных, цветовых деталей, мишурный блеск их лишали ощущения той гармонии, которой славился сгоревший театр, построенный Тома де Томоном. Переделки Модюи не удовлетворили многих.
"Этот первый опыт его в Петербурге был и последним, - ядовито замечал Вигель. И тут же не без основания добавлял: - Не совсем его вина, если наружность здания так некрасива, если над театром возвышается другое строение, не соответствующее его фасаду. Тогдашний директор, князь Тюфякин, для умножения прибыли требовал, чтобы его как можно более возвысили". Умножение прибыли было санкционировано свыше. "Когда перестройка была кончена... государь... осмотрел театр, остался доволен... Щедро наградил он Модюи и деньгами и чином коллежского асессора..."
А зрители и актеры очень скоро начали жаловаться на плохую акустику, неважную видимость со многих мест. Созданная чуть позже специальная комиссия по осмотру здания, дипломатично отметив, что "оный театр, требуя по многосложности конструкций беспрестанных частых и ежегодных исправлений", констатировала: "Невыгоды и неудобства для слуха и зрения... происходят от данной круглой формы зала в плане, излишней высоты его, частых колонн, углубления амфитеатров и круглости плафона".
Переделывать театральное помещение никто не стал. И актеры должны были приспосабливаться к неудобствам нового зала, порою форсируя голос, огрубляя жесты, отказываясь от полутонов. Наиболее искушенные зрители начали выражать неудовольствие... А тут еще разнесся слух, "будто г-жа Семенова оставляет вовсе театр". "Желаем со всеми вообще любителями нашего драматического искусства, чтобы слух сей оказался ложным, - сообщал журнал "Благонамеренный" осенью 1819 года. - Если же, к сожалению, он справедлив, то потеря сия для нашего театра чрезвычайно велика; не было еще у нас, а может быть, и никогда не будет столь превосходной трагической актрисы, какова г-жа Семенова".
Впервые вопрос об уходе с императорской сцены она подняла в 1815 году. В "Журнале Комитета, учрежденного для дел театральной дирекции" 9 августа того года появилась запись: "Актриса Семенова б., выслужа десятилетний стаж, положенный воспитаннице театрального училища, требует прибавки, сравнивающей ее с первыми сюжетами. И то только до возвращения Государя императора в надежде, что его величество благоволит всемилостивейше отличить ее от прочих повышением ее оклада", и что она требует пользоваться теми же выгодами, которые имеет Яковлев и "без коих... не остается в службе".
В результате появилось приказание стоявшего тогда во главе дирекции Тюфякина: "...для сравнения с другими главными персонажами российской труппы" прибавить Семеновой "к получаемому ею доселе жалованию 2500-1500 рублей, на наем квартиры к 200 рублям еще 300 рублей, ежегодно по 20 сажен дров и по одному бенефису на обыкновенных казенных расходах, за что она обязана исполнять весь прежний возлагаемый дирекциею на ее обязанности репертуар, до прибытия в столицу Государя императора, с тем что тогда будет сделано особое представление с требованием на Высочайшее благоусмотрение".
В 1816 году не только с иностранными, как это было ранее, но и с русскими актерами начали заключать контракты. С Екатериной Семеновой, пока на один год, было заключено соглашение. Она сама продиктовала его условия: "О вознаграждении моих трудов назначается мне... жалованья в каждый год по 4000 рублей ассигнациями... Сверх того на городской гардероб по 500 рублей в год. А так как некоторые другие актеры, получая по 500 рублей на гардероб, имеют при том концерт на казенных расходах, каковых по своему амплуа (Семенова. - К. К.) иметь не может; то... прибавить мне от дирекции 300 рублей. Также назначение мне на квартиру по 500 рублей и по 20 сажен дров ежегодно, равноместно ежегодный бенефис в генваре или феврале месяце на обыкновенных расходах".
Но и этого ей показалось мало. Пользуясь своим положением незаменяемой премьерши, она поставила еще одно условие: "Каждый год дирекция на июль месяц для отдохновения увольнять меня будет от должности, с позволением жить на даче, кроме тех спектаклей, кои даны будут при высочайшем дворе". Условия ее были дирекцией приняты.
Она теперь имела и собственную дачу, и собственный особняк. Правда, не совсем ее... Принадлежали они Ивану Алексеевичу Гагарину. Но на нее давно уже смотрели как на его гражданскую жену. Связь с ним оказалась прочной. И не была похожа на обычное содержание актрис знатными театралами.
Обе сестры Семеновы - и Екатерина, и Нимфодора - сумели привязать к себе знатных возлюбленных на всю жизнь. Изящная, прелестная Нимфодора Семеновна Семенова привлекала "акварельным личиком", тонким станом, беспечным, легкомысленным, добрым, легким, хотя и несколько капризным, нравом. Екатерина Семеновна Семенова - классической красотой, гордым, сильным, даже надменным характером человека не просто одаренного, а обладающего исключительным талантом, знающего себе цену и всегда помнящего о том.
Нимфодора Семеновна неплохо играла и пела в водевилях, комедиях, несложных операх, пышных парадных представлениях. Обладая приятным голоском, она постоянно вызывала всплески аплодисментов влюбленных в нее многочисленных поклонников. Щедро содержал ее обер-шенк граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин. Он не покинул ее до смерти, холил, оберегал. Она имела от него детей. И не претендовала на роль его законной, или хотя бы незаконной, жены, довольствуясь богатым, слегка богемным салоном, который он ей помог создать и который посещали многие литераторы, запросто бывавшие как у нее, так и у Екатерины Семеновны: Оленин, Гнедич, Пушкин, Жуковский, Грибоедов.
Но каким разным было их отношение к сестрам! Влюбленно-легкомысленное к младшей. И, как правило, восхищенно-уважительное к старшей. Многие из них были на короткой ноге с Екатериной Семеновной, не один был более или менее увлечен ею. Порою могли чуть фривольно, даже бесцеремонно, на правах дружбы, пошутить, как сделал это Грибоедов, сообщая приятелю своему С. Н. Бегичеву из Москвы: "Кстати, коли увидишь Семенову (Мельпомену), скажи, что ее неверный князь здесь, и я его за нее осыпал упреками и говорил, что если он еще будет ей делать детей, то она для сцены погибнет..." Но все они преклонялись перед ее талантом.
Екатерина Семеновна упорно не хотела "погибать для сцены". Судя по прорывающимся в отдельных воспоминаниях намекам, не Гагарин, а именно она сама долгое время не соглашалась сковать себя с ним законными "узами Гименея", ибо тогда ей пришлось бы оставить театр. В 1818 году у нее было от Ивана Алексеевича двое детей, носивших фамилию по названию одного из его поместий - Стародубских. Они жили вместе с ней в одном из особняков Гагарина, выходящем на Миллионную улицу (ныне Халтурина), Зимнюю канавку и набережную Мойки, числившемся на 1-й Адмиралтейской части за № 40. Летом выезжали с нею на дачу, которую построил для Екатерины Семеновны князь Гагарин на привилегированном Аптекарском острове на Малой Невке, напротив царской летней резиденции - Каменноостровского дворца (теперь на дачном участке Гагарина - улица Павлова, 12, - находится Институт экспериментальной медицины).
Отношения с князем Гагариным давали Е. С. Семеновой независимость в поведении с начальством, позволяли с дерзновенной требовательностью отстаивать свое особое среди актеров положение.
И все же наступило время, когда и Екатерине Семеновой пришлось познать первые болезненные удары по самолюбию.
Случилось это вскоре после триумфально прошедших в 1818 году московских гастролей. Вернувшись в Петербург, Екатерина Семенова 21 ноября сыграла вместе с Брянским Ксению в довольно редко шедшем теперь "Димитрии Донском". Затем 29-го того же месяца - Меропу. Наконец, 4 декабря - Эдельмону в "Отелло".
И тут неожиданно узнала, что 16 декабря назначен дебют дочери лучшей петербургской танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой (ближайшей, кстати, подруги Александры Дмитриевны Каратыгиной) - молоденькой Сашеньки.
Александра Колосова была не чета девицам "из театральных". Евгения Ивановна, будучи благодаря своему таланту, энергии и деловым способностям женщиной весьма обеспеченной, хорошо воспитала горячо любимую дочь. Сашенька училась в одном из лучших в Петербурге частных пансионов, а не в театральной школе, превосходно говорила по-французски, слегка по-парижски грассируя, имела благородные манеры, миловидную наружность, приятный голос. И будто самой природой создана была для ролей принцесс.
"Князь Шаховской, - сообщает П. Арапов, - чрезвычайно обрадовался такому приобретению, под руководством его Колосова дебютировала в первый раз, ролью Антигоны в трагедии "Эдип в Афинах"".
Удар был нанесен, как говорится, прямо в сердце. Для Семеновой, впервые пожавшей сценические лавры в этой трагедии, роль Антигоны была своего рода талисманом. Именно ею открывала она обычно свои гастроли и только что снова - в который раз! - имела в ней головокружительный успех в Москве. Выбор этой роли для дебюта юной актрисы был для Семеновой по меньшей мере обиден. Еще обиднее ей стало после самого спектакля.
"Дебют был самый блестящий, - продолжает рассказывать Арапов,- все любители, драматурги и большая часть высшего общества находились в театре; Александра Михайловна была вызвана с торжеством, и, по окончании трагедии, первые наши писатели приветствовали ее в уборной".
А писателями-то этими были ярые поклонники и друзья Екатерины Семеновой! И среди них - молодой Александр Пушкин, казавшийся в то время так влюбленным в Мельпомену - Семенову, что близкие его приятели поговаривали, будто среди имевшегося тайно у Пушкина "донжуанского списка" вписан и инициал К., означающий - Катерина Семенова.
А теперь Пушкин, именно Пушкин, начал воспевать юную соперницу Семеновой, посвятив Колосовой стихи:
О ты, надежда нашей сцены! Уж всюду торжества готовятся твои? На пышных играх Мельпомены, У тихих алтарей любви.
Позже Пушкин так опишет появление Александры Михайловны Колосовой на сцене:
"В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно - частая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой. Во все продолжение игры ее рукоплесканья не прерывались. По окончанию трагедии она была вызвана криками исступления, и когда Колосова большая Filiae pulchrae mater pulchrior (Прелестной дочери прелестнейшая мать (лат.).) в русской одежде, блистая материнской гордостью, вышла в последующем балете, все загремело, все закричало. Счастливая мать плакала и молча благодарила упоенную толпу... Рассказываю просто, не делая на это никаких замечаний".
Пушкин-то рассказывал просто. А как непросто было Екатерине Семеновой, не знавшей до сих пор достойных ее соперниц, пережить такое ликование, такое беснование неверной толпы. Екатерине Семеновне в ту пору было всего лишь тридцать два года, и она еще по всем сценическим канонам имела права на исполнение ролей амплуа Молодой любовницы. И расставаться с ними не желала.
Между тем на "чердаке" Шаховского, как называли квартиру Шаховского в доме Клеопина на Средней Подьяческой улице (теперь участок дома № 12), где собирался цвет литературного и артистического Петербурга, ликовали и обговаривали следующие дебюты Сашеньки Колосовой. Как обычно, больше всех кипятился и старался сам князь Шаховской. Только что перессорившись с Тюфякиным, который после недавней отставки А. Л. Нарышкина официально был назначен директором театра, Шаховской был уволен. Однако сохранил там свое влияние. И теперь, не без удовольствия, готовил гордячке Семеновой еще одну замену - в виде второго дебюта Колосовой в озеровском "Фингале".
"Второй ее дебют, - рассказывает Арапов,- был 30 декабря в роли Моины... и это было новое для нее торжество; в Моине она была пластично прелестна, и долго шли толки об ее игре".
Начавшийся 1819 год готовил для Семеновой удар за ударом. По свидетельству все того же летописца Арапова, уже не только Шаховской, но и "Павел Алексеевич Катенин предложил молодой дебютантке Колосовой, столь блистательно выступившей на драматическом поприще, приготовить роль Эсфири для ее третьего дебюта; он проходил с нею эту роль многократно, и 3 января она играла ее на Большом театре и имела полный успех, несмотря на то что в Эсфири превосходна была К. С. Семенова".
А затем, как рассказывает Арапов, "9 января был бенефис танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой, в котором Александра Михайловна Колосова, по желанию автора комедии "Молодые супруги", исполняла Эльмиру и играла прелестно на фортепьяно рондо сочинения Фильда; здесь она доказала, что всякой характер молодой образованной женщины совершенно доступен ее таланту...".
Автором этой пьесы был Грибоедов. Четыре года назад он, большой поклонник таланта Семеновой, уговорил ее играть в переделанной им французской комедии Грессе "Секрет свадьбы", названной им "Молодые супруги", роль главной героини - Эльмиры. И она имела в ней неожиданный для трагической актрисы успех. И очень полюбила эту роль. И исполняла 18 раз, что было много для того времени. Семенова вряд ли умела с таким искусством, как хорошо образованная, бравшая уроки у самого Фильда Сашенька Колосова, музицировать. Да и легкого изящества, свойственного юной Эль- мире, в ней было меньше, чем в семнадцатилетней дебютантке. Но тогда, при первом представлении "Молодых супругов", ей, Семеновой, пели дифирамбы те же приятели входившего в известность автора - "непостоянные обожатели очаровательных актрис", левое крыло театрального партера, куда постоянно покупали билеты беспокойные, молодые, горячие вольнодумцы, влюбленные и в сам храм театральных муз, и в их обитательниц! С какой быстротой они увлекались новым, с каким неистовством рукоплескали ему! И сколько горечи оставляли в сердцах своих недавних еще, теряющих молодость, кумиров!
"У князя Шаховского съезжались постоянно по вечерам драматические писатели, - свидетельствовал Арапов. - Грибоедов, друг Грибоедова Д. Н. Бегичев, живший с ним, А. А. Жандр, Хмельницкий, Лобанов, Я. Н. Толстой, Катенин, Алекс. Сер. Пушкин, Барков, Алекс. Бестужев, Всеволожский и несколько первоклассных артистов составляли постоянно его беседы; общий приговор нашел справедливым, чтобы Алекс. Мих. Колосова продолжала свои дебюты в трагедии, почему, по желанию Мих. Евст. Лобанова, она исполнила роль Ифигении с большим искусством и тактом".
Спектакль "Ифигения в Авлиде", состоявшийся 17 февраля 1819 года с участием Е. С. Семеновой и А. М. Колосовой, по общему мнению, был разыгран "в совершенстве". Впервые на русской сцене исполнение Ифигении юной актрисой было поставлено в один ряд с исполнением роли Клитемнестры самой Семеновой.
Дирекция немедленно с 1 марта заключила с Александрой Колосовой контракт, согласно которому ей было назначено 1750 рублей жалованья, 200 рублей квартирных, 300 рублей на гардероб, 8 сажен дров и бенефис в лучшее время - в декабре, правда "на своих расходах".
На бенефисе же Екатерины Семеновны Семеновой 15 мая того года Александра Колосова сыграла в "Медее" роль ненавистной главной героине юной коринфской царевны Креузы. И хотя, по признанию Арапова, "преимущество было на стороне Семеновой, игравшей главную роль, но публика аплодировала беспрестанно и молодой актрисе, так что успех их был одинаков".
Тут было от чего прийти в неистовый гнев не знавшей на русской сцене соперниц Екатерине Семеновой. Колесо единодушного признания начало катиться в другую сторону. Роль за ролью отходили к другой. Новых, кроме Медеи, в 1819 году ей не досталось ни одной. И тогда Екатерина Семенова приняла решение.
Пимен Арапов объяснял это так: в 1820 году "17 января Кат. Сем. Семенова, обеспеченная в своем положении, снискавшая большую известность и любовь публики, избегая неприятностей и интриг, как артистка весьма самолюбивая, решилась оставить театр; она подала просьбу об увольнении ее от службы и обязалась письменно не требовать пансиона..."
И ее уволили приказом директора театра Тюфякина.
"Директор Тюфякин, - характеризовал его Петр Каратыгин, - напоминал собою наших удельных князей, с их грубой татарщиной. Сластолюбивый невежда, нетрезвый аристократ, он ничего не понимал ни в литературе, ни в искусстве... Его деспотизм не укращался никаким приличием".
Не посчитался он и со славой актрисы, в демонстративном уходе которой из театра содержалась и своего рода бравада: "Что ж, посмотрим, как вы обойдетесь без Семеновой!"
"Почетные граждане кулис" действительно скоро одумались, как только попытались трезво оценить и сравнить изящное дарование молодой дебютантки с могучим талантом на сцене зрелой актрисы.
Одним из первых это понял Пушкин. На смену готовящимся торжествам "на пышных играх Мельпомены", которые он прочил при появлении Колосовой в 1818 году, через год пришло другое: "Три раза сряду Колосова играла три разные роли с равным успехом. Чем же все это кончилось? Восторг к ее таланту и красоте мало-помалу охолодел, похвалы стали умереннее, рукоплескания утихли, перестали ее сравнивать с несравненною Семеновой; вскоре стала она являться перед опустелым театром". И с лаконичной объемностью предсказал: "Если она исправит свой однообразный напев, резкие вскрикиванья и парижский выговор буквы Р, очень приятный в комнате, но неприличный на трагической сцене, если жесты ее будут естественнее и не столь жеманными, если будет подражать не только одному выражению лица Семеновой, но постарается себе присвоить и глубокое ее понятие о своих ролях, то мы можем надеяться иметь со временем истинно хорошую актрису - не только прелестную собой, но и прекрасную умом, искусством и неоспоримым дарованием. Красота проходит, таланты долго не увядают".
Пророчество Пушкина оправдается. Теперь же, в 1820 году, он готовился прочесть свои замечания о театре на заседании содружества "Зеленая лампа", близкого по взглядам декабристскому обществу "Союз благоденствия". Но сделать это ему не пришлось. Скоро, весной этого года, отправился он в южную ссылку.
Неоконченные же "Замечания об русском театре" подарил той, о которой, назвав ее "единодержавною царицей трагической сцены", написал: "Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое она поняла откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, всё сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано".
Она отдала пушкинские записки своему неизменному другу Гнедичу. Тот же, несмотря на самую искреннюю любовь к написавшему эти строки, не без ревности начертал на автографе: "Пьеса, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее..." И все-таки сохранил сию "пьесу", ставшую для потомков гениальным отзвуком той далекой театральной эпохи.
Судьба Семеновой не перестанет волновать Пушкина и в ссылке. В письмах к друзьям вновь и вновь он будет спрашивать о "великолепной Семеновой", о том, что с ней.
Ужель умолк волшебный глас Семеновой, сей чудной музы? Ужель, навек оставя нас, Она расторгла с Фебом узы, И славы русской луч угас? Не верю! вновь она восстанет. Ей вновь готова дань сердец, Пред нами долго не увянет Ее торжественный венец. И для нее любовник славы, Наперсник важных аонид, Младой Катенин воскресит Эсхила гений величавый И ей порфиру возвратит.
И снова окажется прав. Пушкин напишет эти строки в 1821 году. А в самом начале следующего, 1822-го, Екатерина Семенова вернется на сцену. Только вот отношения с Катениным у нее окажутся не столь идилличными. Гораздо сложнее.
* * *
Екатерина Семенова вернулась на петербургскую сцену с триумфом, проявив незлопамятность, даже великодушие. Еще до официального зачисления в штат театральной дирекции она согласилась выступить на бенефисе пытавшейся когда-то соперничать с ней Марии Ивановны Вальберховой, которая оказалась в тяжком положении, потеряв отца (отнюдь, как помним, не всегда лояльно относившегося к Семеновой) и содержа после его смерти братьев и сестер.
Появление Екатерины Семеновой на сцене запечатлел П. Арапов: "Казалось, что два года, проведенные в удалении от театра, могли ослабить силу искусства; но напротив: великая актриса явилась 16 января, в означенном бенефисе, в роли Клитемнестры, в трагедии "Ифигения в Авлиде", с новою энергиею, с новым развитием своего могучего таланта. Имя ее, выставленное на афише, привлекло в Большой театр многочисленную публику; за несколько дней до бенефиса не было уже нигде ни одного билета в продаже; восторг зрителей доходил до чрезвычайных размеров". Театр оглашался "троекратным взрывом аплодисментов, продолжавшихся несколько минут".
Торжество ее было полным. Тотчас же было дано высочайшее повеление министру финансов: "Первой трагической актрисе Катерине Семеновой, в уважение ее отличного таланта и не в пример другим, повелеваю за прежнюю ее семнадцатилетнюю службу производить из Кабинета в пожизненный пенсион ежегодно по 4 тысяче рублей с 1 февраля с. г.".
Оговорка: "не в пример другим" - была не случайна. Полную пенсию, соответствовавшую их жалованью, актеры имели право получать лишь за двадцатилетний срок служения на императорской сцене. Семеновой же, мало того что сделали это за семнадцать лет, но еще засчитали те два года, что она не играла на сцене! К тому же с ней заключили дополнительный контракт, по которому она за каждое выступление получала плюс к пенсии 300 рублей поспектакльных.
Возвращение Семеновой имело свою закулисную подоплеку. За время ее отсутствия в театре произошло немало перемен.
В 1820 году на сцену ступил актер, в котором многие увидели преемника великого Яковлева. О новом восемнадцатилетнем дебютанте Василии Каратыгине, игравшем трагический репертуар, заговорил весь Петербург.
Родители его, Андрей Васильевич и Александра Дмитриевна Каратыгины, пройдя через тернии сценической жизни, прочили его не на актерскую стезю. В отличие от младшего его брата Петра, которого родители отдали в театральную школу, Василий учился и в гимназии, и какое-то время в Горном корпусе, и даже был уже определен в Департамент внешней торговли. Но Василий Каратыгин не пошел по уготованному родителями чиновничьему пути. С четырнадцатилетнего возраста (родился он в 1802 году) пристрастился к домашним спектаклям. Участниками таких спектаклей были братья Каратыгины, дети Вальберхов и других актеров, в том числе и Сашенька Колосова. Надо сказать, что семейства Каратыгиных, Вальберхов и Колосовых связывала многолетняя дружба. Дети их постоянно общались, хотя Евгения Ивановна имела собственный дом и не жила в доме Голидея, выходящем на Екатерининский канал, Мариинский переулок и Офицерскую улицу (ныне ул. Декабристов), в котором к тому времени обитали почти все ведущие служители сцены. В трехэтажном, с небольшими колоннами доме помимо жилья актеров находились типография Похорского (в которой печатались афиши и пьесы), нотная контора, репетиционный зал и даже трактир под пышным названием "Отель дю Норд" (он, кстати, доставлял немало неприятностей женам актеров, любивших распить там одну-другую бутылку вина и погонять шары на бильярде).
Квартира Каратыгиных на втором этаже выходила окнами на Офицерскую улицу.
Зрителями в домашнем театре Каратыгиных были профессиональные актеры и ряд весьма уважаемых литераторов, среди которых особенно часто присутствовал, разумеется, А. А. Шаховской. Именно он, неугомонный искатель все новых и новых дарований, открыл таланты Александры Колосовой и Василия Каратыгина. Результатом занятий с Шаховским явилось их совместное выступление в спектакле, состоявшемся на учебной сцене театрального училища в присутствии директора театра Тюфякина. Театральное училище располагалось все там же, на Екатерининском канале, очень близко от дома Голидея.
Вскоре после этих выступлений и состоялся уже описанный сенсационный дебют на сцене Большого театра Александры Колосовой в роли Антигоны.
Василию Каратыгину, как свидетельствует брат его Петр, "хотя и предлагал тогда Шаховской дебютировать, но мать и отец не вполне были довольны его успехами... Они не согласились на его дебют под тем предлогом, что он еще очень молод, ему тогда было с небольшим шестнадцать лет...". Князь Шаховской огорчился. Но вскоре огорчиться пришлось ему еще больше. Василий Каратыгин пошел "на выправку" к Катенину. Мало того, вскоре после своего дебюта в театре и Александра Колосова начала пользоваться советами Катенина.
Дружбой с Павлом Александровичем Катениным гордилось все семейство Каратыгиных.
Петр Каратыгин писал о нем: "Катенин... был человеком необыкновенного ума и образования, тонкий критик и знаток театра. Французский, немецкий, итальянский и латинский языки он знал в совершенстве, понимал хорошо английский и знал несколько греческий... Одним словом, это была ходячая энциклопедия. В 1814 году, будучи в Париже вместе с полком, он имел случай видеть все сценические знаменитости того времени... С этим-то высокообразованным человеком брат мой начал приготовляться к театру".
Подготовленный под руководством Катенина дебют Василия Каратыгина состоялся 3 мая 1820 года в озеровском "Фингале", затем начинающий актер в паре с Александрой Колосовой выступил в "Танкреде", а потом после исполнения роли Пожарского был зачислен в штат русской драматической труппы на амплуа Первого любовника с жалованьем несколько меньшим, чем у Колосовой, но довольно высоким для дебютанта: 2000 рублей, с казенной квартирой, с десятью сажен дров и одним бенефисом в три года.
Последовали их совместные выступления в "Андромахе" Расина, в "Дидоне" Княжнина, "Димитрии Донском" Озерова и, наконец, в когда-то переведенной Катениным для Семеновой и теперь заново поставленной "Ариане" Корнеля. Александра Колосова играла Ариану, Василий Каратыгин - Тезея. Спектакль, состоявшийся 4 января 1822 года, был неплохо принят публикой, но сенсацией, как ожидал того Катенин, не стал.
Сенсацией явилось возвращение Екатерины Семеновны Семеновой.
Будто вихрь ворвался на русскую сцену ее поистине могучий, еще более окрепший за время расставания с театром талант. Где уж тут было противостоять ему одаренным, но еще не набравшим силу дебютантам! Да и перечить Семеновой было некому. Обстоятельства теперь сложились для нее благоприятно.
5 июля 1821 года, испросив высочайшего разрешения, князь Тюфякин, от которого, по словам П. Каратыгина, она постоянно видела "неуважение", уехал в Париж, чтобы пополнить французскую труппу. "На время своего отсутствия, - рассказывает П. Арапов, - он вызвал из Москвы действительного статского советника Майкова для управления петербургским театром". По-прежнему оставаясь близким приятелем Шаховского, Майков сразу призвал его к фактическому руководству русской труппой, чему способствовал и генерал-губернатор М. А. Милорадович, взявший после отъезда Тюфякина театр под свою непосредственную власть. Вскоре, добившись увольнения Тюфякина (который из Парижа не вернулся и умер там через десять лет), Милорадович создал особый комитет, управляющий театром, куда, по желанию Майкова, вновь был официально зачислен Шаховской.
"Понимая очень хорошо, что князь Шаховской, по знанию театральных дел и по влиянию, которое он имеет на русский театр, может быть ему чрезвычайно полезен, - сообщал П. Арапов, говоря о Майкове, - он предоставил ему распоряжаться по-своему".
И Шаховской очень хорошо распорядился. Он сделал такой "шаг конем" в сложной закулисной шахматной партии, который дал несомненный выигрыш состоянию русской сцены (и в то же время удовлетворил его собственное оскорбленное самолюбие). Отбросив прошлые обиды, он пошел на поклон к Семеновой и, получив от соскучившейся и томящейся без сцены актрисы согласие на участие в бенефисе Вальберховой, чувствительно уязвил изменивших ему учеников. Семеновой были возвращены все главные роли. А она не дала согласие на партнерство с Василием Каратыгиным, предпочтя ему Я. Г. Брянского и в некоторых спектаклях талантливого И. П. Борецкого, зачисленного в театр одновременно с Колосовой, в 1818 году.
* * *
Опустевшие было залы при выступлениях русской драматической труппы снова начали наполняться до предела. Бешеный успех сопровождал Семенову в 1822 году в спектаклях "Ифигения в Авлиде", "Медея", "Гофолия", "Пожарский", "Димитрий Донской". Растерянная, удрученная Александра Колосова, взяв отпуск, уехала с матерью "для усовершенствования" за границу. Василия Каратыгина почти до самой осени этого года перестали выпускать на сцену. А Екатерина Семенова получила право олицетворять собой Мельпомену и в переносном смысле слова, и в прямом.
Произошло это по тяжелому поводу для всей русской сцены. 27 октября 1821 года умер Иван Афанасьевич Дмитревский. После смерти Яковлева он, живя где-то на углу Садовой и Гороховой (ныне Дзержинского) улиц, совсем одряхлел, ослеп, редко выходил из дому.
Похороны его были скромными. Семья жившего с ним сына - коллежского советника Ивана Ивановича Дмитревского - была плохо обеспечена, о чем тот и писал воспевшему когда-то Ивана Афанасьевича в стихах Д. И. Хвостову: "Имея недостаточное состояние и семейство из жены и трех дочерей, кои требуют содержания и воспитания, и при том задолжав довольно значительную сумму, как на лечение болезненного и престарелого моего родителя в последние годы его жизни, так и на приличное его погребение, я не в силах теперь сам почтить прах его и самым малейшим надгробием".
Кроме Ивана Ивановича у Дмитревского было еще пятеро сыновей, служивших мелкими чиновниками, и четыре замужних дочери. Ко дню своей смерти Иван Афанасьевич имел также 8 внуков, 10 внучек, 5 правнуков и 2 правнучки. Рано овдовев, но оставаясь примерным семьянином и любящим отцом, Иван Афанасьевич почти всю жизнь помогал им. Цены повышались, а пенсия не увеличивалась. Потомство возрастало... После смерти Ивана Афанасьевича семье его действительно было не под силу поставить мало-мальски достойный его памятник. Об этом и писал Иван Иванович Хвостову, прося содействовать в сем деле, обратясь к Российской академии и Вольному экономическому обществу, членами которых были и покойный Дмитревский, и Хвостов.
Хвостов медлить не стал. Сразу же обратился к другу своему, директору Российской академии А. С. Шишкову, который написал отношение директору императорских театров Майкову и одновременно сообщил о том Милорадовичу.
"Российская академия, - обращал их внимание Шишков, - находит сие желание сына воздвигнуть надгробный памятник столь почтенному отцу весьма справедливым; ибо российский театр действительно обязан был ему не токмо началом существования своего, но вместе и славой... Но как главная покойного Дмитревского слава и заслуги относятся более к театру, то наперед и ожидает она от театральной дирекции подвига, состоящего в том, чтобы дать ему бенефис. Тогда академия, со своей стороны, не оставит с признательностью публики соединить и свою признательность к праху сего отличного Россиянина".
Милорадович доложил об этом Александру I. Тот 13 декабря 1821 года дал согласие на устройство бенефиса в честь покойного Дмитревского. Но Майков содействовал такому бенефису вяло, откладывая его не раз. И тогда взялся за него неугомонный, преданный Дмитревскому Шаховской. Он написал так называемый пролог "Новости на Парнасе, или Торжество Муз" в стихах, с пением, хорами, балетом и торжественным хором. И добился представления, как написано на рукописном экземпляре "Пролога", в Петербурге "на Большом театре июля 10 дня 1822 года для сооружения надгробного памятника г-ну Дмитревскому".
За прологом следовал показ "Альберта I", которым когда-то попрощался Дмитревский со зрителями. Теперь роль Альберта не без успеха сыграл Брянский.
Но овации были предназначены не ему. Они сопутствовали той части пролога, где появлялся посреди сцены бюст Ивана Афанасьевича, который венчали девять муз, сыгранные артистками русской труппы. Каждая из муз отдавала ему дань, произнося хвалу, вызывающую несмолкаемые рукоплескания. Полного апогея они достигли, когда, возложив к бюсту мирт, величавая красавица Мельпомена - Семенова глубоким, грудным, завораживающим голосом торжественно возвестила:
Так жизнь тому мила и смерть не так ужасна, Кто, с честью конча век, в потомстве не умрет; Дмитревский в памяти людей переживет Любимцев случая, тягчивших свет напрасно...
Бенефис закончился балетом лучших танцовщиц и танцовщиков во главе с воспетой Пушкиным Истоминой. Бурной реакции зрителей, казалось, не было предела.
Со спектакля было собрано на памятник Дмитревскому 3500 рублей. К этой сумме добавил Кабинет двора 3000 рублей, Российская академия - 500 рублей. Да вдовствующая императрица Мария Федоровна внесла 300. Таким образом собралась немалая сумма для установки памятника.
Часть этих денег выпросил на свои "неотложные нужды" сын Дмитревского - Иван Иванович. Между тем Российской академией был утвержден проект памятника, по которому на оставшиеся деньги он и был поставлен на Волковом кладбище, где похоронили И. А. Дмитревского. А оттуда в 1936 году, когда был построен Некрополь деятелей литературы и искусства Александро-Невской лавры, останки Дмитревского вместе со скромным, но со вкусом сделанным из белого мрамора памятником были перенесены туда. Здесь он находится и поныне.
* * *
Между тем Василий Каратыгин не сдался, не опустил рук. Продолжая числиться в русской драматической труппе, он упорно продолжал заниматься с Катениным, живущим в казарме 1-го Преображенского полка на Миллионной улице у Зимней канавки (ныне улица Халтурина, дом № 33, принадлежащий Эрмитажу). "Почти ежедневно бывал он у него... - свидетельствовал Петр Каратыгин. - Занятия их были исполнены классической строгости и постоянного, честного и неутомимого труда..."
Прошло лето 1822 года, и администрация театра поняла, что не выпускать на сцену числящегося Первым любовником и заслужившего уже зрительское признание талантливого молодого актера не только невыгодно, но и многими осуждаемо. Поняла это и Семенова. Как поняла и то, что выступать в ролях молодых любовниц вкупе с Василием Каратыгиным, который младше ее на шестнадцать лет, ей не пристало. И тогда она выпустила вместе с ним в спектакле "Карл XII при Бендерах" в такой роли свою ученицу Марию Азаревичеву.
Почувствовав, что пришла пора, Екатерина Семенова решила подготовить себе на смену молодых актрис, которые могли бы противостоять Александре Колосовой, ожидавшейся со дня на день в Петербурге.
Обучать юных актрис Семенова начала еще с того времени, когда ушла из театра и ставила на своей домашней сцене в особняке на Миллионной незатейливые комедии (играя, кстати, там с ними сама). Более или менее постоянных учениц у нее было две: игравшая на сцене роли наперсниц Пелагея Лобанова и незаконнорожденная дочь А. А. Майкова, воспитанница театральной школы, Мария Азаревичева.
К сожалению, ни та ни другая талантом не отличались. Но Екатерина Семенова, по-прежнему во всем советуясь с Гнедичем, пыталась создать свою систему воспитания актрис. Чуть позже появится документ, в котором будет зафиксировано ее представление о том, как следует готовить актеров к спектаклям, как обучать их сценическому мастерству. Правда, по мнению многих, документ этот, представленный в дирекцию театра, был составлен не Семеновой (которая, по тем же свидетельствам, даже простые письма сочинять не умела!), а Гнедичем, но подписан был ею. Да и соображения ее, столько лет лидирующей на сцене, он несомненно вобрал.
"Не полагаясь на опытность многих лет, я бы не позволила себе сих замечаний, - обращалась она к театральной дирекции в письме, названном "Мнение актрисы Катерины Семеновой об улучшении драматических представлений". - Я делаю их в той уверенности, что они будут приняты столь же благосклонно, сколько искренне я их предлагаю - я привыкла считать пользы театра собственною моею пользою, возвышение его меня радует - недостатки печалят. Драматическое искусство - моя слава, и я довольно соединилась с ним, чтобы участвовать душою во всех успехах".
Прежде всего, считала она, в спектаклях должно быть "общее согласие в игре", гармония, достигнутая на репетициях. Каждому актеру должен быть известен "характер своей роли, отношения свои к пьесе вообще и к главным ее персонажам, чтоб каждое место его на сцене было ему известно и соглашено с движениями первых лиц, чтоб входы и выходы его производились точно в свое время... чтобы пьеса разыгрывалась так, как будто бы всякое движение само собою из представляемого происшествия выходило, разыгрывалось натурально, правдоподобно". Мало знать текст своей роли, стараться "высказать ее твердо, громко и внятно", надо согласовать каждое свое движение, жест "с действием других лиц". А для этого нужно хорошо понимать суть всей пьесы. Игра актеров должна сопровождаться "высокостью мыслей, верностью положений и сходством с натурою. Она должна заставить зрителя участвовать душою в представляемом происшествии, извлекать его слезы, внушать страх, радость или негодование по своей воле; одним словом, заставить забыть, что он в театре, и, сделав чувства его посредниками действия, управлять его сердцем".
Кем бы ни сочинялся этот документ, одним ли Гнедичем или вместе с Семеновой, несомненно одно: эти правила она прививала своим ученицам.
Семенова занималась с ними у себя дома. Она руководила ими на репетициях. "Говоря о репетиции, - рассказывал Пимен Арапов, - должен я упомянуть о порядке, в каком их проводила Семенова; она имела обыкновение, приехав поутру на пробу, уводить игравших с нею артистов в особую залу и запирала ее на ключ, так, что никто из посторонних не мог развлекать репетиции". Если же Семенова выступала с ними в одном спектакле, "накануне представления она проходила свои роли с Николаем Ивановичем Гнедичем, а в день представления прочитывала их несколько раз с жившей у ней Лобановой. В день спектакля обед Семеновой был всегда ранний и очень умеренный". Ничего ответственнее, чем изучение ролей, ничего святее, чем участие в спектаклях, для нее не было.
После выступления Марии Азаревичевой с Василием Каратыгиным в "Карле XII при Бендерах" Семенова решила вывести ее на сцену в роли Поликсены в одноименной трагедии недавно скончавшегося Озерова (в которой когда-то при жизни драматурга успешно выступала сама и которую из-за разрыва отношений дирекции с драматургом пришлось сыграть ей всего четыре раза!). Теперь Семенова решила исполнить другую роль - ту, которую тогда, в 1809 году, играла Александра Дмитриевна Каратыгина, - роль троянки Гекубы, дочь которой Поликсену хочет отдать в жертву богам упрямый и жестокий сын погибшего в боях греческого царя Ахилла Пирр. Но Поликсена была предназначена богами в жены Ахиллу, и, любя его, она сама вонзает в себя меч на его могильном холме. Тема матери, готовой жизнь отдать за детей, столь близкая Екатерине Семеновой в прежних ролях, зазвучала с новой, особой силой. И если раньше в ее исполнении мятущаяся между любовью к родине, матери, сестре и любовью к Ахиллу троянка Поликсена становилась в центр спектакля ("Одна и везде Поликсена" - таков был тогда приговор зрителей), то теперь весь восторг публики поделили Екатерина Семенова в роли Гекубы и Василий Каратыгин в роли кровожадного Пирра.
"Трагедия была сыграна 18 сентября 1822 года на славу, - фиксирует Пимен Арапов.- Театр был полон; прием Каратыгина был чрезвычайный..."
И тут разразился скандал. Зрители требовали на сцену Семенову. Семенова неожиданно для всех вывела Азаревичеву. И, демонстративно подчеркнув, что весь успех спектакля предназначен ее ученице, отошла назад, показывая на последнюю рукой.
Но зрительный зал продолжал кричать: "Семенову!", "Азаревичеву не надо! Семенову одну!"
"Не следовало Азаревичевой выходить, никто ее не звал, это дерзость со стороны Семеновой... Она смеется над публикой", - мгновенно разнеслись среди зрителей слова сидящего у самой сцены Катенина.
Такого конфликта давно не было в Большом театре. Разгневанная Екатерина Семенова покинула подмостки.
А в кулуарах, зрительских фойе, у выхода то и дело раздавались реплики далеко не в пользу Семеновой. Суды-пересуды... Они, по сообщению Арапова, были переданы Семеновой в тот же вечер, "с прибавлениями, как это всегда водится; приняв это близко к сердцу, раздраженная гневом Гекуба с горькими слезами едет к Милорадовичу...".
* * *
Генерал-губернатор Петербурга, "предупрежденный еще до этого случая не в пользу Катенина", надменно отчитывает отставленного от военной службы в чине полковника "почетного гражданина кулис":
- Первая наша актриса Семенова, чувствуя себя вами обиженной, не желает более являться на сцену, если вы, господин Катенин, останетесь судьею ее представлений, а это бы было большое лишение для публики, и потому я вас прошу не ездить в театр, когда госпожа Семенова будет играть!
"В этом была взята с Катенина подписка, и о происшедшем граф Милорадович донес государю, находившемуся тогда за границей", - заканчивает описание сцены у генерал-губернатора Арапов.
Взбешенный Катенин ни от кого не скрывает своего негодования. Понося всюду Милорадовича, не стесняется он и "в своих резких отзывах насчет губернаторской власти". Тот и об этом докладывает только что вернувшемуся в Петербург Александру I. 7 ноября Катенин получает высочайший приказ немедленно покинуть Петербург, с подпиской не въезжать в обе столицы.
Катенин отправляется в ссылку к себе в имение в Костромскую губернию вместе с отцом Василия Каратыгина - Андреем Васильевичем, который сопутствует ему, дабы "скрасить его одиночество".
Окружение Катенина клеймит Семенову. В то же время все удивляются строгости наказания за такой далеко "не важный проступок" отставного гвардейского полковника, храброго и заслуженного офицера... И постепенно начинают понимать, что история в театре "лишь повод". Об этом размышляет и Петр Каратыгин в своих "Записках": "Впоследствии я слышал от некоторых моих знакомых, что его (Катенина.- К. К.) подозревали к принадлежащим к какому-то тайному обществу, что многие были уже на замечании у правительства и что Александр I, не желая делать огласки и наказывать явно опасных либералов, дал секретное предписание петербургскому и московскому генерал-губернаторам - следить за ними и при случае дозволял им, придравшись к этим господам, высылать их немедленно из столицы. Так было и с Катениным".
Пройдет немного времени, и многие из "этих господ" встретятся с оружием в руках на Сенатской площади, как враги, с петербургским генерал-губернатором Милорадовичем. И тот будет убит. Там, на Сенатской, не будет Катенина. Но будет много его друзей, пылких, отважных, восклицавших вслед за ним: "Ах! лучше смерть, чем жить рабами, - вот клятва каждого из нас..."
* * *
Разные зрители наполняли тогда петербургские театры. Те, кто являлся "из казарм и совета занять первые ряды", были, по едкому выражению Пушкина, слишком осторожны "в изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же русского)". Партер же посещали многие из тех, кто "вольностью дыша, готов охлопать entrechat, обшикать Федру, Клеопатру, Моину вызвать (для того, чтоб только слышали его)".
Федра скоро станет коронной ролью Семеновой. Моина принадлежала к амплуа "молодых принцесс", в котором успешно дебютировала Колосова. "Что сделает великолепная Семенова, окруженная так, как она окружена?" - восклицал Пушкин в письме брату Льву.
А Семенова после отъезда Катенина в 1823 году играла роль за ролью своего старого репертуара на сцене Малого театра у Аничкова дворца. (В Большом театре представляли теперь главным образом оперы и балеты.) Вначале с Каратыгиным старалась не выступать. Брянский по-прежнему был ее основным партнером. Но постепенно история с Катениным потеряла сенсационный оттенок, пересуды надоели, сплетни поутихли. Увлеченные все более совершенной игрой Семеновой, многие зрители перестали ее винить, трезво оценив происшедшее и истинные мотивы высылки Катенина.
А она неожиданно переменила тактику. И открыто пошла на мировую со всем семейством Каратыгиных.
14 декабря 1822 года редко выходивший какое-то время на сцену Василий Каратыгин на своем бенефисе сыграл главную роль в "Сиде" Корнеля, переведенном специально для него Катениным, с Вальберховой в роли Химены. По свидетельству Арапова, "трагедия имела успех, а бенефициант был вызван с торжеством". 4 марта следующего года, на масленице, Екатерина Семенова вышла на своем бенефисе в роли Меропы с Василием Каратыгиным в роли Эгиста - сына главной героини. ""Меропа" в означенный бенефис сыграна превосходно" - таков был приговор публики. С этого момента Семенова начинает все чаще появляться на сцене с Василием Каратыгиным. На втором своем бенефисе она играет с ним главную роль в трагедии "Электра и Орест", заняв в роли юной Кризотемии свою любимицу Марию Азаревичеву, а в роли коварной Клитемнестры - свою давнюю по амплуа соперницу Александру Дмитриевну Каратыгину.
И дальше все чаще они начинают выступать вместе: Александра Дмитриевна Каратыгина, старший сын ее Василий Андреевич и Екатерина Семеновна Семенова. Это тоже становится сенсацией. Зрители ломятся даже на давно, казалось бы, отыгранную "Марию Стюарт" Шиллера в переводе Шеллера. Причем, как и прежде, в 1809 году, Елизавету играет уже очень постаревшая Александра Дмитриевна, а Марию - тридцатишестилетняя, находящаяся в прекрасной форме, Екатерина Семенова. Только вместо покойного Яковлева в роли предавшего Марию Стюарт Норфолька выступает чем-то внешне напоминающий покойного актера, но такой несхожий с ним по манере игры Василий Каратыгин. Причем в этой роли Каратыгин имеет успех, пожалуй, более громкий, чем прославленный прежний исполнитель: в нем меньше пыла, больше рассудочности, что ближе к образу Норфолька, созданному в русской интерпретации трагедии.
Каратыгина хвалят, Семенову превозносят.
В совместных выступлениях она на том этапе ведет за собой молодого, вдумчивого Каратыгина. Об этом еще до постановки "Меропы" намекают ссыльному Катенину в письмах его "доброжелатели" (их во все времена в театральном мире бывает предостаточно). И он с нескрываемой обидой пишет в начале марта 1822 года другу своему и единомышленнику Н. И. Бахтину: ему крайне неприятны высказывания, "что Каратыгин, не имея хорошего наставника, ежедневно портился до роли Пирра, которая была пес plus ultra (Предельно (лат.).) дурною, но потом (сиречь с моего отъезда) отменно поправился, что он подражает Семеновой и должен непременно у нее (сиречь у Гнедича) брать уроки. ... Я писал в Петербург об этом бесстыдстве, - добавляет он, - и прошу Вас настоятельно растолковать Каратыгину, что мне это крайне обидно, что горжусь его дарованиями и что ему почти неблагородно в этом случае молчать... Должно ли стоить ему объявить, что он обязан своим театральным образованием человеку, им уважаемому, что он старается играть по тем же правилам, которые уже прежде удостоились одобрения публики, и что он, отдавая всю справедливость Семеновой, сроду не брал у нее уроков?"
Василий Каратыгин действительно был верным учеником Катенина и не брал у Семеновой (или у Гнедича) уроков в прямом смысле слова. Но игра с ней не проходила для него бесследно. И как ни обижен, как ни разочарован был Катенин, он сам в конце концов сознался в письме любимой им ученице Александре Колосовой: "Публика чрезвычайно любит (и я согласен с ее вкусом), когда лучшие таланты сходятся в одной пьесе".
Мало того, с неприязнью окрестив Семенову всевластной "королевой-матерью", коварной Катериной Медичи, описав ее, в угоду хорошенькой Сашеньке Колосовой, "женщиной статной, с несколько суровой физиономией, с грубыми порывистыми ухватками, резким голосом и тоном" ("таковы средства Семеновой", - уверял он), для которой созданы роли "скорее отталкивающие, нежели привлекательные", Катенин в то же время с укором вопрошал: "Малая толика соревнования, соперничества - полезные, побудительные средства; будут для Вас унижением ежеминутные сравнения Вас с Семеновой?" При всей неприязни, даже ненависти к Семеновой, он "не позволяет" в письмах умненькой, одаренной, грациозной Александре Михайловне, к которой испытывает самые нежные чувства, бросать театр, как она задумала, боясь соперничества, а толкает ее на одни с Семеновой подмостки.
Он любовно расписывает роли, которые должна играть вернувшаяся в Петербург Колосова: Эсфирь, Гермиона, Аменаида, Камилла, Селимена в "Мизантропе" Мольера... Он руководит ею в письмах, размышляет о ее даровании, дает объяснения образам, которые она должна воссоздать. И его любимая ученица вкупе с его любимым учеником выходит на сцену впервые после длительной отлучки: 7 сентября 1823 года в роли Гермионы - с Каратыгиным - Орестом, 21 сентября Эсфири - с Каратыгиным - Артаксерксом, потом Аменаиды - с Каратыгиным - Танкредом, 27 октября Камиллы ("Горации") и 27 ноября Прелестины (Селимены) в "Мизантропе".
Зал принимает ее возвращение "единодушными рукоплесканиями". Рукоплещут ее возрасту, нежности, наружности, благородной свободе поведения, ее появлению с Каратыгиным, который и впрямь великолепный партнер, к тому же влюбленный в нее (и которому она отвечает взаимной любовью!). Рукоплещут ее чуть офранцуженной манере исполнения (опыт пребывания в Париже, общение с Тальма, Рокур и другими французскими знаменитыми актерами не могли пройти мимо ее легкого, восприимчивого таланта).
Семенова же возобновляет партнерство с Брянским. Она выступает с ним в "Медее" с такой силой, что даже Катенин, когда возвратится в Петербург, и тот воскликнет в письме Пушкину: "Семенова после долгого сна отлично сыграла Медею: какое дарование!"
А затем, осенью 1823 года, она приступает к Федре, одной из самых трудных в мировом репертуаре ролей, считавшейся лучшим созданием Жорж.
"Федра" Расина была представлена в петербургском театре 9 ноября. "Известно, что роль Федры, - рассуждал по этому поводу Арапов, - почитается пределом драматического искусства; одно высокое дарование Семеновой было в состоянии передать все ее красоты... Роль Федры была венцом славы Екатерины Семеновны. Соответствовал ее игре и Каратыгин, который прекрасно передал роль Ипполита".
Да, Семенова сделала и этот шаг. Дав отыграть Колосовой с Каратыгиным полагающиеся той по амплуа роли молодых любовниц-принцесс, Екатерина Семенова, в самой сложной роли, которые она когда-либо играла, взяла себе в партнеры на этот раз не Брянского, а Василия Каратыгина, возраст которого был чуть побольше возраста Ипполита - юного пасынка влюбленной в него Федры.
"Соединение таких двух талантов, как она с Каратыгиным, не всегда случается..." - заключает Арапов.
Соединить их теперь на сцене стремились многие литераторы. По рассказу Арапова, "Гнедич и Лобанов руководствовали постановкою "Федры"; один Шаховской отзывался с ирониею о ее представлении, ибо он не жаловал ни Семеновой, ни Каратыгина, и восторженный прием их публикой смущал его до глубины души".
Федра была последней, самой высшей ступенью искусства Екатерины Семеновой. Именно в "Федре" с наибольшей силой проявилось то сочетание высокого сценического классического трагедийного мастерства с романтически-вдохновенными порывами, которые прославило великую актрису. Исполнение роли Федры Семеновой, вопреки далеко не качественному переводу Лобанова (по прочтении которого у захотевшего написать на него рецензию Пушкина "перо вываливалось из рук"), сумело домести ту трагедийную силу, которой пронизано произведение Расина.
Федра Семеновой была близка тому глубинному осмыслению этой роли, которое сделал тонкий и умный ценитель драматургии, один из ранних русских романтиков Василий Жуковский: "Страсть Федры - единственная по своей силе - изображена Расином с таким совершенством, которого, может быть, не найдем ни в одном произведении стихотворцев ни древних, ни новых. Автор имел искусство, но искусство, известное одним только гениям первой степени, основать всю трагедию свою не на происшествиях необычайных, возбуждающих любопытство, изумление, ужас, но просто на одной сильной страсти, которой раскрытие, оттенки и изменения составляют единственную сущность его трагедии..."
Не обычная для классицизма борьба долга и чувства лежала в основе образа, воссозданного Семеновой. Она раскрывала безрассудную страсть, целиком охватившую жену афинского царя Тезея к ее пасынку Ипполиту - безупречно чистому и гордому юноше, любящему юную афинянку Арисию. И понимание безнадежности своей любви, и чувственное влечение к юному царевичу, и мучительную нежность к нему, и муку безответной любви, и горькое отчаянье, и униженное чувство потерянного достоинства когда-то гордой женщины удалось с потрясающей силой воплотить Семеновой в роли Федры.
"Семенова выразила... весь раздор души", - вспоминали видевшие ее.
"Забвение чувств", "исступление", "глухой вопль души, растерзанной безнадежностью" вырывались у нее, когда Федра предлагала Ипполиту отдать в его власть себя, своих детей - претендентов на престол, только бы вызвать его любовь. И тут же неожиданно она преображалась, когда "являла черты матери, скорбящей о детях":
Страшусь лишь имени оставить здесь позор. Какое страшное для чад моих наследство!
При появлении Тезея, оказавшегося вопреки слухам живым, в ее речах звучала былая гордость:
Тезей, не простирай объятий мне своих И ласк не расточай, я недостойна их...
А потом, узнав, что Ипполит любит другую, она вновь впадала в бешеное "безумие страстей", почти исступленно крича сообщившей ей о том служанке Эноне (которую играла А. Д. Каратыгина):
О скрытой их любви зачем не известила? Как их сердца зажглись? Как выросла любовь? Скрывались ли они во мрачности лесов?
И тут же переходила на полный безнадежности, "сокрушительный" стон, который выдавал несбывшуюся ее мечту о чистом, полном нежности чувстве. С прошедшим "чрез не одну любовь" Тезеем ей было не дано познать его:
Ах, сладки их невинные страданья.
"В последней сцене трагедии, - сообщал рецензент "Сына Отечества", - когда Федра приходит изнеможенная пожирающим ее ядом и угрызениями совести, трудно было разуверить себя, что видишь не в самом деле умирающую Федру. Постепенное ослабление и перерыв голоса, неровное, томительное дыхание - все способствовало к обману слуха и глаз. Казалось, что душа медленно отлетела от страждущего тела несчастной царицы".
В отличие от французских актрис, в том числе и Жорж, Семенова соответствовала тому представлению о Федре, которое высказал утонченный аналитик Жуковский, увидев в расиновской героине не преступницу, а "жертву", и жертву "самую трогательную преступления непроизвольного".
"Во все продолжение трагедии она только несчастна: сердце ее ни на минуту не участвовало в том преступлении, в которое она ввергнута была помешательством страсти".
* * *
"Федра" стала подлинным событием театрального Петербурга, особенно знаменательным еще и потому, что с 1823 года в русской столице опять играла приехавшая из Парижа довольно сильная французская труппа. Она занимала попеременно с драматической русской труппой сцену Малого театра у Аничкова дворца.
Начался новый год. И в театральном мире произошли снова сенсационные события. Сыграв довольно успешно с Василием Каратыгиным несколько ролей, Александра Колосова наконец-то выступила в одном спектакле не только с Василием Каратыгиным и его матерью, но и с Екатериной Семеновной Семеновой.
Произошло это 29 января 1824 года. Был возобновлен "Гамлет" в переводе Висковатова. В первой постановке 1810 года Семенова, как уже говорилось, играла роль Офелии. Теперь она взяла на себя куда, казалось бы, менее выгодную роль королевы-матери Гертруды, передав роль Офелии Колосовой. Короля Гамлета сыграл Василий Каратыгин. Потом - в другом, куда более верном английскому подлиннику переводе Николая Полевого, - роль принца Гамлета станет у Каратыгина коронной. В ней запечатлеют его художники, сравнение его в этой роли с московским гениальным актером Павлом Мочаловым Белинским станет хрестоматийным. Но сейчас, в начале 1820-х годов, в неуклюжей переделке Висковатова Каратыгину не удалось приблизиться к шекспировскому образу, к которому неведомо каким чудом прорвался в 1810 году Яковлев. Не удалось и Колосовой добиться того единства зрительского восторга, которое сопровождало молодую Семенову в роли Офелии.
Зато безликая когда-то в "чувствительном" исполнении Александры Дмитриевны Каратыгиной Гертруда, сыгранная Семеновой, встала в центр спектакля. Ролью Гертруды она как бы заканчивала воплощение свойственной ей темы матерей, идущих на преступление по воле "немилосердного рока" - ничем не удержимой чувственной любви, от которой они не в силах отказаться. Самым сильным местом в "Гамлете" у Семеновой становился монолог Гертруды:
Немилосердный рок! Во что меня вовлек?
* * *
Тут наступило полное примирение. Такого соединения талантов еще не знала русская труппа. До самой осени 1824 года зрители видели дружные совместные выступления Семеновой, Каратыгина и Колосовой. Еще раз исполняются "Федра", "Мария Стюарт", "Гамлет". Даже на вечерах в пользу вдовы капельмейстера Антониолини Екатерина Семенова декламирует вместе с Василием Каратыгиным ранее не игравшуюся ими вместе сцену из "Фингала". В театральной иерархии каждому теперь определено свое место. В трагедийных мужских ролях бесспорно главенствует Василий Каратыгин. "В театре превозносят Каратыгина и тебе приписывают развитие его дарования", - сообщает Грибоедов ссыльному Катенину 17 октября 1824 года.
Что же касается актрис, то с Семеновой теперь вровень никто и не пытается вставать. О бывшем соперничестве ее с Вальберховой и Колосовой не без юмора рассказывает Петр Каратыгин: "Эти три актрисы постоянно враждовали между собою, и каждая, в свою очередь, вытесняла соперницу, каждая из них отходила и снова возвращалась на сцену. Впоследствии хотя они и служили три вместе, но всесильное время прекратило уже их вражду: Вальберхова, устарев, перешла на амплуа благородных матерей, Семенова уходилась, Колосова, побывавши за границей, - уездилась..." (И уже играла больше в комедиях.)
Следует лишь добавить, что трагедийной актрисой Вальберхову давно не считали. Уже в 1820 году Пушкин писал о ней: "...истинные почитатели ее таланта забыли, что видали ее в венце и мантии, которые весьма благоразумно сложила она для платья с шлейфом и шляпки с перьями".
Грибоедов же в письме Катенину, расхвалив Каратыгина, весьма откровенно выразил (упомянув перед этим "нашу Семенову" и ее "пламенную душу") свое мнение о любимой того ученице: "Сказать ли тебе два слова о Колосовой? В трагедии - обезьяна старшей своей соперницы, которой средства ей, однако, не дались, в комедии могла бы быть превосходна, она и теперь, разумеется, лучше Вальберховой... Шаховской не признает в ней ни искры таланта; я не согласен с ним, конечно, она еще не дошла и вполовину до той степени совершенства, до которой теперь могла бы достигнуть".
Все, казалось бы, успокоились. Но сценическая идиллия опять в столице оказалась недолгой. И на этот раз не по вине актеров и актрис.
После успешных выступлений в Петербурге Александра Колосова отправилась осенью на гастроли в Москву, куда давно мечтала попасть. Уехала она в середине октября. А в ноябре 1824 года Петербург, как известно, пережил одно из самых сильных за время его существования наводнений. Большому театру был нанесен серьезный ущерб. Представления во всех сценических зданиях по высочайшему распоряжению были запрещены. Театральная жизнь столицы оказалась нарушенной. До конца года Екатерине Семеновой ничего существенного сыграть больше не удалось. Наступивший же 1825 год принес в театральную жизнь значительные перемены. Было принято новое "установление" театра, по которому все дела решал особо выделенный сановный комитет. По существу же главное управление над театральными зрелищами сосредоточил в своих руках Милорадович. Непосредственное руководство русской театральной труппой - близко стоявший к нему Шаховской. Разумеется, и Майков продолжал действовать в качестве директора, правда, скорее административно, чем творчески. По его настоянию вновь уволили вернувшуюся после гастролей Александру Колосову, а ее роли передали Азаревичевой.
Трагедии стали показывать редко. "У Шаховского прежние погремушки, - писал Грибоедов все еще бывшему в ссылке Катенину в конце 1824 года, - только имя новое. Он вообразил себе, что перешел в романтики, и с тех пор ни одна сказка, ни одна басня не минует его рук, все перекраивает..."
На сцене начали преобладать балеты, пышные зрелища, комедии, водевили, мелодрамы. Семенова выступала в старом репертуаре преимущественно в паре с Василием Каратыгиным: в "Семирамиде", "Марии Стюарт", "Китайском сироте", "Пожарском". Из новых ролей более или менее "объемной" была заглавная роль в трагедии де Беллуа "Габриэль де Вержи", в основе которой лежал "ужасающий" рассказ о том, как героиня съела сердце своего возлюбленного рыцаря Рауля, убитого в Палестине, которое подали ей зажаренным по приказу ревнивого мужа. У просвещенных литераторов сие "изделие" вызывало насмешку. У непросвещенного зрителя - обильные слезы. О нем можно было бы и не упоминать, если бы Петр Каратыгин при описании этой роли актрисы не описал внешность Екатерины Семеновой той поры.
Она все еще была моложава и очень хороша собой. Петр Андреевич упоминает "благородный профиль ее красивого лица", "прямой пропорциональный нос с небольшим горбом", каштановые волосы, "синеватые глаза, окаймленные длинными ресницами", "умеренный рот". И особо подчеркивает, что "все это вместе обаятельно действовало на каждого при первом взгляде на нее. Контральтовый, гармоничный тембр ее голоса был необыкновенно симпатичен и в сильных патетических сценах глубоко проникал в душу зрителя".
В то же время надо отдать должное ее вкусу и такту: несмотря на "моложавость", очень редко позволяла она себе исполнять роли Первых любовниц в пышных мелодраматических зрелищах, отдав их Колосовой, Азаревичевой и даже совсем молоденькой ученице Шаховского, будущей жене Петра Каратыгина, - Любови Дюр.
На одном таком спектакле, в котором участвовала Екатерина Семенова, все же необходимо остановиться. Ибо связан он с именем Александра Сергеевича Пушкина.
Из самых лучших, казалось бы, побуждений поставил 28 сентября 1825 года А. А. Шаховской в пользу своих учениц Любови Дюр и Марии Азаревичевой перелицованный пушкинский "Бахчисарайский фонтан" под названием "Керим-Гирей, крымский хан" (романтическая трилогия в 5 действиях, в стихах, с пением, хорами и танцами на музыку знаменитого композитора Кавоса). От поэмы Пушкина тут мало что осталось. Гениальные стихи его были перемешаны с весьма средними, порою смехотворно звучащими виршами Шаховского. Игравший главного героя Василий Каратыгин вынужден был произносить:
Марии тень, Заремы вопли, Я ужас наведу на них: Ах! силы крепких мышц моих Еще с убийцей не утопли.
Зрелище было пышно и громоздко. От большинства сцен веяло внешней красивостью. Балет, пение, пантомима, монологи перемежались. Пестрота красок, "экзотичность" костюмов, сцены сражений, пляски в гареме уводили к обветшавшим приемам былых времен.
Поэтичность пушкинских образов и стихов лишь изредка прорывалась в некоторых сценах этого представления.
К счастью, Шаховской бережно сохранил пушкинский монолог Заремы, обращенный к испуганной Марии. И это позволило Арапову написать: "Семенова превосходно создала роль Заремы; известный монолог, обращенный к Марии, "Я гибну. Выслушай меня..." Катерина Семеновна произнесла с большою энергией, голосом, исполненным душевной горести, и последняя ее тирада привела в восторг весь театр:
Молю, винить тебя не смея, Отдай мне прежнего Гирея... Не возражай мне ничего; Он мой, он ослеплен тобою. Презреньем, просьбами, тоскою, Чем хочешь, отврати его; Зарему возврати Гирею...
...Возобновлявшиеся несколько раз рукоплескания, с громкими криками "браво", оглашали залу... Сбор был значителен: первые ряды кресел были заняты гвардии офицерами; в ложах помещались семейства высшего петербургского общества, посещающего русский театр только в известных случаях".
"Семейства высшего петербургского общества" пришли на красочное зрелище. Многие гвардии офицеры были приятелями опального Пушкина и страстными поклонниками искусства Екатерины Семеновой. Соединение их имен в 1825 году звучало символично.
7 ноября 1825 года в селе Михайловском закончена "Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе Годунове и о Гришке Отрепьеве...". В роли Марины Мнишек Пушкин мечтал увидеть Семенову. Через несколько дней после окончания трагедии Пушкин напишет другу своему Вяземскому: "Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию - навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!" "Борису Годунову" долго еще придется ждать своего сценического воплощения! А Семеновой так и не доведется сыграть роль Марины!
* * *
1825 год. Поворотный год в истории России. Растущее напряжение в общественных кругах. Разгул аракчеевщины. Ропот и заговоры офицеров. Пьянящие речи на их застольях. Списки запрещенных произведений. Прославляющие свободу потайные стихи.
А в театре все более развлекательным, как обычно во время наступления реакции, становится его репертуар, все чаще гремят "погремушки" Шаховского.
В руководстве театром произошли кое-какие изменения. Вследствие интриг ушел с поста директора А. А. Майков. Его заменил статский советник Н. Ф. Остолопов. Власть Шаховского чуть приуменьшилась. Ведавший театральными делами комитет приказал вновь принять в штат уволенную Майковым Александру Михайловну Колосову с довольно большим жалованьем - 6000 рублей в год.
Положение же Семеновой как будто бы не меняется. И в эти времена, подчеркивает Арапов, "знаменитая наша актриса имела большое влияние на состав дирекции; ее уважали; взгляд был выразителен, речь повелительна и гармонична, осанка величественна, так, что если б кто никогда и не видел ее, встретясь с нею вне сцены, всегда бы сказал: "Вот она, наша Семенова!""
Но после Заремы в "Керим-Гирее" она не исполнила ни одной новой роли. Остолопов заботился больше всего об иностранных спектаклях. (В Петербурге кроме французской играла и немецкая труппа.) Русская драматическая труппа чаще всего исполняла комедии, комические оперы и водевили.
Семеновой так и не удалось сыграть выбранную ею Иоанну (Жанну д' Арк) в "Орлеанской девственнице" Шиллера, переведенной Жуковским и запрещенной для сцены ни больше ни меньше как министром внутренних дел Кочубеем. Екатерине Семеновне не пришлось создать и Саломею в трагедии Гиро "Маккавеи" (один из актов которой переводил Рылеев), хотя текст трагедии заинтересовал ее.
А в жизни России приближался еще один трагический поворот. 18 ноября 1825 года на сцене Малого театра был представлен незамысловатый водевиль Р. Зотова "Последний день счастья" (разумеется, без участия Екатерины Семеновой). Название его потом вспоминали не без суеверного чувства. На второй день в Таганроге скончался Александр I. Правда, весть о смерти императора донеслась в столицу лишь 27 ноября. Но названия шедших накануне оперы и балета звучали не менее символично: "Вавилонские развалины" и "Ужасная ночь".
Начал разворачиваться новый виток истории.
Во время траура театральная жизнь в России прекратилась на девять месяцев. Со страхом ждали присяги новому государю. Приближался искалечивший многие судьбы людей святой и роковой день- 14 декабря 1825 года.
Где была в тот день Екатерина Семенова? Она не жила в театральном доме Голидея, выходящем на Офицерскую улицу, по которой вели на Сенатскую площадь свои полки ее бесстрашные поклонники. Она не бежала вслед за ними, как это сделали ее партнеры - братья Каратыгины и Борецкий, связанные приятельскими отношениями с некоторыми из них. И не видела, как был убит Милорадович, с лихой самонадеянностью пытавшийся остановить восставшие полки.
Особняк, предназначенный ей и ее детям князем Гагариным, помещался по другую, за Дворцовой площадью, сторону...
Но судьбы декабристов не могли не волновать ее. Среди тех, кто участвовал в их заговоре, было много ее приятелей, наконец, близких князю И. А. Гагарину людей. Под арестом оказался его сын Александр, который потом за недостаточностью улик был выпущен. Выдержал допросы Грибоедов, также в конце концов оправданный. Но под подозрением еще долго находились его друзья - Жандр, Катенин и другие.
В тот страшный год у Семеновой было основание беспокоиться и за Гнедича, о котором один из бдительных чиновников-цензоров в свое время писал, что он "очень часто увлекался к прославлению вольности и свободы, называя даже иногда свободу святою...".
И самое главное - за Ивана Алексеевича Гагарина, не стоявшего, разумеется, на республиканских позициях, но возглавлявшего с 1816 года одну из масонских либеральных лож, которые то и дело попадали под опалу сменявших друг друга царей.
В 1822 году началось их жестокое преследование. Рескриптом Александра I от 1 августа 1822 года было повелено всем служащим в департаментах дать подписку о том, что "они не принадлежат к масонским ложам" и обязываются к оным впредь "не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь". Высочайшее повеление довели до всех чиновников театральной дирекции и даже артистов, которые и дали такие подписки, представленные в Министерство внутренних дел.
К моменту декабристского восстания гонение на масонов еще более ужесточилось. Со многими из принимавших участие в восстании именно по масонским делам долгое время был связан один из магистров ордена Иван Алексеевич Гагарин.
Девять месяцев глубокого траура после смерти Александра I оказались мрачными и тревожными. Следствие, приговоры, пятеро повешенных, каторга... В июле "дело" о декабристах завершилось.
Коронация состоялась в Москве 22 августа. В отличие от бывших ранее коронаций там театральных представлений не было. Большой московский театр после траура открылся лишь 12 сентября.
А в Петербурге через четыре дня после коронации состоялся торжественный спектакль в Большом театре, на который съехалась вся знать. Ничего более верноподданного, соответствующего происходившим событиям, чем старый, потерявший былую патриотическую злободневность "Пожарский" Крюковского, в репертуаре театра не нашли. Он опять оказался пьесой "кстати". И был поставлен с прежней помпой, в тех же впечатляющих декорациях, с нарочито громкими аплодисментами зрителей, с лучшими актерами в главных ролях. Пожарского прекрасно (но, пожалуй, без свойственного Яковлеву пылкого воодушевления) продекламировал Василий Каратыгин. Екатерина Семенова мастерски сыграла чуждую ей роль Ольги. Но это был уже позавчерашний день!
В сентябре и октябре трагедии шли редко. Семенова выступила в нескольких проходных для нее мелодрамах и даже комедиях. И потеряв, по-видимому, веру в дальнейшую возможность высокой миссии трагической актрисы, подала прошение об отставке с положенной за двадцатилетнюю службу в императорском театре полной пенсией.
Окончательную отставку вместе с выслуженной 4000-рублевой пенсией в 1826 году ей не замедлили дать.
Прощаясь со сценой, она исполнила свои коронные роли: гордую Семирамиду, исступленную в защите дочери Клитемнестру, мятежную Медею. И закончила сценическую жизнь 29 ноября 1826 года безысходно горькими словами Федры:
Я чувствую, уже достиг до сердца яд - И сердце все мое объял безвестный хлад...
В одном из последних документов, подшитых в "деле дирекции императорских театров", она вскоре подписалась как "бывшая актриса императорского театра, а ныне тайная советница княгиня Гагарина".
Да, в том же, 1826 году были сыграны две "театральные" свадьбы. Одна из них как бы заканчивала период сценической жизни Петербурга первой четверти XIX века, превращая великую актрису Семенову в княгиню Гагарину. Вторая счастливо соединила пришедшую ей на смену чету будущих корифеев той же сцены Каратыгиных - Василия Андреевича и Александру Михайловну Колосову, принявшую его фамилию.
Уход столько лет носившей высокое именование "Мельпомена" Семеновой подвел итог декабристскому периоду истории русского театра. В сердцах и умах людей Екатерина Семеновна Семенова осталась носительницей на русской сцене свободолюбивых, возвышенных, бурных и обреченных надежд своей поистине трагической эпохи.
* * *
В Москве, куда Екатерина Семеновна переехала вместе с Гагариным, она обвенчалась с ним в Лужниковской Тихвинской церкви у Девичьего поля. Поселились вместе в роскошном особняке на Староконюшенном переулке. Дочерей князь Гагарин узаконил, а сыновьям родового имени не передал. И они носили фамилию Стародубские, не имея права присоединять к ней княжеского титула.
Вряд ли всерьез воспринимали Семенову в Москве как княгиню Гагарину. Она была и осталась "театральной женой". Это Пушкин мог с таким удивительным достоинством надписать на преподнесенном ей экземпляре "Бориса Годунова" - "Княгине Гагариной от Пушкина - Семеновой от сочинителя", от всей души подчеркнув ее новый титул! Но не фамусовская Москва.
Через шесть лет после женитьбы Иван Алексеевич умер, оставив ей огромное состояние. "Овдовев, - рассказывал о Е. С. Семеновой-Гагариной Петр Андреевич Каратыгин, - она несколько раз приезжала в Петербург и также участвовала раза два в любительских спектаклях в конце 40-х годов, в доме известного тогда капиталиста Александра Карловича Галлера. Последний раз в 1847 году она решилась сыграть для публики и приняла участие в спектакле, данном с благотворительной целью в доме Энгельгардта..." (Невский пр., 30, Малый зал им. М. И. Глинки Филармонии).
Петру Андреевичу довелось видеть эти спектакли.
"Но, боже мой! - восклицал он. - Кем она была окружена!" Бездарными любителями. "Понятное дело, - продолжал он, - каково ей было возиться с такими Агамемнонами, Тезеями и Язонами. И все-таки, несмотря на окружающий ее персонал, на преклонные ее лета... были минуты, когда как будто прозвучат давно-давно знакомые мне звуки ее дивного голоса; как будто из-под пепла блеснет на мгновение искорка того божественного огня, который во время оно воспламенял эту великую художницу!" И огорчался до глубины души, когда молодежь, не видавшая этой гениальной артистки в лучшую пору, насмешливо смотря на бывшую верховную жрицу Мельпомены, говорила: "Помилуйте, неужели эти развалины могли быть когда-нибудь знаменитостью?" - "Да, - с гневом парировал Петр Андреевич, - может быть, это были и развалины, но развалины Колизея, на которые художники и теперь еще смотрят с благоговением".
На сцене Екатерина Семенова не захотела перейти в разряд актрис, играющих роли благородных матерей, как сделала это пережившая ее Александра Дмитриевна Каратыгина. Но судьба заставила Семенову в жизни оказаться именно в такой, да еще с мрачным мелодраматическим концом, роли. Приезжала она в Петербург не только для того, чтобы повидаться с сестрой Нимфодорой, с которой, по-видимому, никогда близка не была. И не только для того, чтобы напомнить о себе, когда-то прославленной артистке, в жалких любительских спектаклях. Ей приходилось приезжать еще и для того, чтобы спасти свою старшую дочь, рожденную в Петербурге в 1816 году и узаконенную князем Гагариным, - Надежду Ивановну. Хорошенькая, живая, с легким характером девочка (не случайно художник Кипренский, не раз рисовавший и родителей ее, и саму ее в детстве, говорил: "Наденька моя фаворитка, и я люблю ее без памяти!") превратилась в красивую женщину с тяжкой судьбой. Семнадцати лет она сделала "хорошую партию", выйдя замуж за крупного чиновника, камергера М. М. Кариолина-Пинского, и переехала с ним в Петербург. У мужа ее оказался нелегкий, жестокий, капризный и даже подлый характер. Не выдержав супружеской жизни с Кариолиным-Пинским, Надежда Ивановна через четыре года после свадьбы вернулась к матери в Москву. Видимо, она полюбила кого-то другого. В 1845 году Карнолин-Пинский возбудил против нее дело, обвиняя ее в разврате и прочих бросавших на нее грязную тень грехах. Для защиты дочери и приезжала ее мать несколько раз в столицу. Гордая Семенова жила в убогой, снимаемой ею квартире на Фонтанке у Обуховского моста, превратившись в заискивающую просительницу, обивавшую пороги департаментов.
Спасти дочь ей так и не удалось. Получив развод (а следовательно, и принадлежавшее бывшей жене богатое приданое), мстительный Кариолин-Пинский не успокоился. Он добился после церковного покаяния Надежды Ивановны заключения ее в монастырь, откуда она вышла только после смерти своей когда-то знаменитой матери.
Здесь, в Петербурге, на берегу Фонтанки, в угловом доме у Обуховского моста, и скончалась 1 марта 1849 года от тифозной горячки Екатерина Семеновна Семенова. Похороны были нищенскими. Проводить в последний путь на бедное, так называемое "холерное", Тентелево (ныне именуемое Митрофаньевским) кладбище пришли братья Каратыгины - Петр Андреевич и Василий Андреевич с женой Александрой Михайловной, верный партнер Екатерины Семеновны Яков Григорьевич Брянский да еще кое-кто из актеров - всего несколько человек. Потом ей поставили скромный памятник из белого мрамора, который сохранился в довольно приличном состоянии. Находится он теперь в ленинградском Некрополе деятелей искусства и литературы у Александро-Невской лавры, куда, как и останки других корифеев сцены, в 30-х годах уже нашего столетия был перенесен ее прах.
"Но вот что осталось по кончине ее странной и до сих пор не разъясненной загадкой,- недоумевал Петр Андреевич Каратыгин.- Состояние К. С. Семеновой, по словам близких к ней людей, простиралось до полутора миллионов рублей ассигнациями. Кроме ее собственного капитала, приобретенного ею в продолжение двадцатилетней службы при театре, покойный ее муж еще при жизни своей продал дом свой в Большой Миллионной, дачу на Аптекарском острове, огромное подмосковное имение, и все деньги, полученные от этой продажи, отданы были ей. Где этот капитал сохранялся, был ли он положен в банк или ломбард? Никто этого не мог узнать. Если бы даже этот капитал был положен на имя неизвестной, как это зачастую Делалось, или был отдан в частные руки, то куда же девались билеты, расписки или квитанции на такую огромную сумму? Короче сказать, ни духовного завещания, ни денег, ни квитанций нигде не оказалось - все исчезло без всякого следа".
Все оказалось прахом. Бессмертным для потомков осталось лишь имя великой Семеновой!
* * *
Размышляя о восторженных отзывах зрителей об игре современных им актеров, П. А. Каратыгин сокрушался: "Кто же теперь поверит этой аттестации? Да, надо признаться, что очень непрочна и мимолетна репутация сценических артистов. Что может быть при жизни заманчивее, приятнее, лестнее славы артиста? Тут в минуту своего труда он получает и награду. Каждая новая, с успехом сыгранная им роль увеличивает его славу. Он ходит по цветам, его венчают лаврами, он от головы до ног осыпан ласками восторженной публики, его слух оглушен громом рукоплесканий и криком одобрения,- но увы! Все это эфемерная награда. Что же после себя оставляет актер? Ровно ничего! Художник-живописец, ваятель, архитектор, музыкальный композитор передают на суд потомства свои произведения, по которым оно может определить силу их дарований и талантов, но на каких данных потомство может сделать оценку таланта артисту? Несколько журнальных статей, несколько мемуаров старинных театралов - и только! Но разве новое поколение уважит эти похвальные отзывы? Молодежь, разумеется, скажет: "Да это им казалось в то время, а теперь бы их знаменитый актер был просто смешон. Эти восторженные хвалители сами были тогда молоды, судили пристрастно и ошибочно увлекались". Что же тут говорить? Поверки сделать нельзя. Современные зоилы не примут в соображение того, что если б этот знаменитый актер жил в теперешнее время, он бы и играл иначе. С изменением общественного вкуса, требования и направления драматической литературы изменилась бы и метода умного и талантливого артиста. Он также пошел бы за веком".
Удивительно и одновременно в чем-то закономерно соотносится жизнь первых корифеев нашей сцены с началом и концом временных периодов, на которые делится история русского театра. С уходом славного основателя русской сцены Федора Григорьевича Волкова в 1763 году как бы заканчивался ее первый период, связанный с елизаветинским временем. Не менее значительным оказался сценический путь знаменитого Ивана Афанасьевича Дмитревского, отразившего своей сценической деятельностью исполненный глубокими противоречиями просвещенный век Екатерины II. Патриотический и романтически-протестантский дух пронизывал творчество беспокойного Алексея Семеновича Яковлева, определенный тревожным временем Отечественной войны с наполеоновскими войсками. Яркой выразительницей декабристской эпохи явилась Екатерина Семеновна Семенова, актерская жизнь которой окончилась в один год с трагическим исходом восстания на Сенатской площади.
Как бы принявшие из ее рук трагедийный жезл Василий Андреевич и Александра Михайловна Каратыгины начнут еще одну главу истории нашего театра, которая приведет его к новым открытиям, новым веяниям и славным именам драматургов и актеров, заставивших воскликнуть Белинского: "Театр!.. Любите ли вы театр, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением?.. Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею самовластно... Что же такое, спрашиваю вас, этот театр?.. О, это истинный храм искусства... Но возможно ли описать все очарование театра, всю его магическую силу над душою человеческой?.. О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!.."
Но это будет уже новая театральная эпоха, с другим "мерилом просвещения и духа времени".
Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде

Е. С. Семенова. Миниатюра на кости неизвестного художника. Начало XIX в.
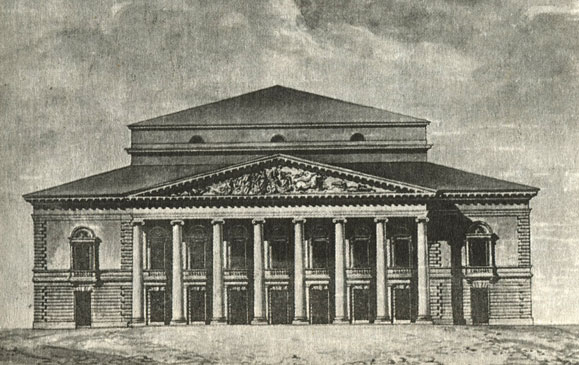
Проект Большого театра в Петербурге Тома де Томона. Фасад. 1802 г.

Е. Семенова - Ксения. С гравюры В. Осипова. Первая четверть XIX в.

Е. Семенова - Ксения. С гравюры Н. Уткина по рисунку О. Кипренского. 1816 г.

А. Яковлев - Танкред. Гравюра С. Галактионова с портрета О. Эстеррейха.

Я. Г. Брянский. С портрета Н. Баранова. 1810-е гг.

А. С. Пушкин. С гравюры Е. Гейтмана.

А. А. Шаховской на репетиции. Рисунок П. Каратыгина. Первая половина XIX в.

Петербургский салон Олениных. С акварели неизвестного художника. 1820-е гг.

Иллюстрация к трагедии В. Озерова 'Эдип в Афинах'. С гравюры М. Иванова по рисунку И. Иванова. Первая четверть XIX в.

Большой театр в Петербурге в начале XIX века. Литография по рисунку неизвестного художника.

Иллюстрация к трагедии В. Озерова 'Фингал'. Гравюра А. Ухтомского по рисунку И. Иванова.

Иллюстрация к трагедии В. Озерова 'Димитрий Донской' С гравюры по рисунку И. Иванова. 1807 г.

Иллюстрация к трагедии М. Крюковского 'Пожарский'. С гравюры А. Ухтомского. 1807 г.

Малый театр в Петербурге у Аничкова дворца. С гравюры по рисунку С. Сабата. 1820-е гг.

Публичная библиотека в Петербурге. С гравюры С. Галактионова по рисунку П. Свиньина. 1820-е гг.

Н. И. Гнедич. С гравюры неизвестного художника. 1820-е гг.

Е. Семенова - Сумбека. По рисунку О. Кипренского. 1823-1824 гг.

Жорж. С картины художника Лагрене.

Е. Семенова - Клитемнестра ('Ифигения в Авлиде' Ж. Расина). С гравюры А. Ческого.

П. А. Катенин. С портрета неизвестного художника. Первая треть XIX в.

В. Каратыгин - Гамлет. С литографии неизвестного художника. 1837 г.

М. И. Вальберхова. С литографии Н. Баранова. 1820-е гг.

А. Колосова - Гермиона. С гравюры по рисунку Фреми. 1821 г.

Нимфодора Семенова в партии Иоанны ('Иоанна д'Арк, или Дева Орлеанская'). С литографии Ж. Гиппиуса по рисунку М. Гомион. 1824 г.

Дочь Е. С. Семеновой Надежда Стародубская. По рисунку О. Кипренского. 1823-1824 гг.

И. А. Гагарин. С портрета О. Кипренского. 1811 г.

Е. С. Семенова-Гагарина. С портрета К. Брюллова. 1836 г.

Набережная Невы у Эрмитажного театра. С гравюры И. Иванова по рисунку В. Садовникова. 1830 г.

На Сенатской площади 14 декабря 1825 г. С акварели К. Кальмана. 1830-е гг.

Обуховский мост. С литографии К. Беггрова. 1822 г.
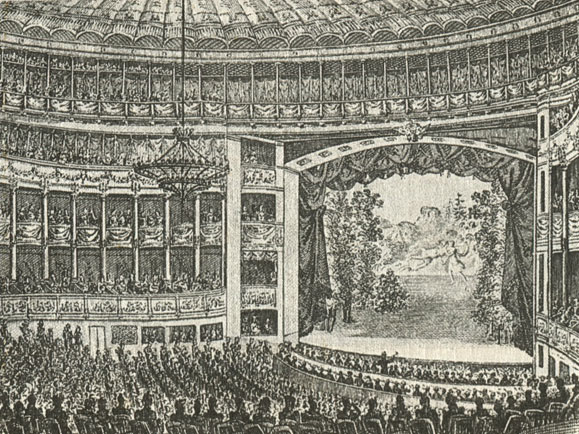
Зрительный зал Большого театра в Петербурге. С гравюры С. Галактионова по рисунку П. Свиньина. 1820-е гг.
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'