
"Завистников имел, соперников не знал"
Я сам мое небо, и сам мой ад!
"Разбойники" Ф. Шиллера
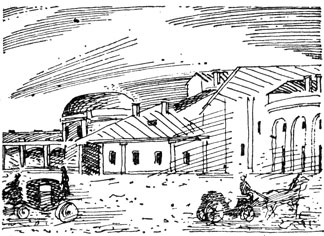
Завистников имел, соперников не знал
Алексей Семенович Яковлев родился в 1773 году.
Год этот запечатлен на его могильном памятнике, в учебниках истории русского театра, во всевозможных энциклопедических справочниках, подтвержден автобиографическими свидетельствами самого актера. Месяц и день рождения не указываются нигде.
До сих пор почти ничего не было известно и о родителях актера. Говоря о его отце, биографы, как правило, ограничивались несколькими словами. Отчества отца - Семена Яковлева никто из них не помянул. Одни считали его уроженцем Костромы, другие - Ярославля, третьи - Санкт-Петербурга. Но все упоминали о том, что был он купеческого звания, разорился и умер, когда сын его Алексей пребывал еще в младенческом возрасте.
О дне рождения Алексея Семеновича Яковлева все еще ясности нет. Предположение, правда, можно сделать.
Один из его современников и верных поклонников, Степан Петрович Жихарев оставил упоминание, что тот любил праздновать день своих именин - 17 марта. Святцы подтверждают указанную дату. Действительно, на день 17 марта приходится тезоименитство "преподобного Алексiя, человека божия", в честь которого, по всей видимости, и был назван наш герой. Обычай давать имя святого, праздник которого соответствует дню рождения новоявленного, был распространен в России, особенно в простонародных и купеческих семьях.
До обидного мало знаем мы и о первых годах жизни Алексея Яковлева. Суммируя документальные свидетельства и показания современников, можно с полным основанием утверждать, что родился он в состоятельной купеческой семье, проживавшей не на Вознесенском проспекте, как уверяли некоторые биографы, а в более удаленной от центра города Литейной части.
"Семен Яковлева сын Зеленин" (такой была фамилия отца Алексея Семеновича, впоследствии утраченная) считался купцом среднего достатка. По сообщениям некоторых биографов, он имел галантерейную лавку в старом Гостином дворе. По их же сведениям, она у него сгорела во время пожара 1771 года.
Семен Яковлевич умер в 1776 году. Жена его Марфа Васильевна последовала за ним, когда Алексею шел десятый год.
Раннее сиротство наложило неизгладимый отпечаток на его характер. Десятилетний Алексей Яковлев попал в семью сестры Пелагеи, старше его на тринадцать лет. Главою семейства был ее муж Иван Максимович Шапошников. Капитал он имел солидный. Став опекуном несовершеннолетних детей Яковлева-Зеленина (кроме упомянутой уже сестры Пелагеи у Алексея Семеновича были еще сестры Марья и Татьяна), Шапошников пустил и их наследство в оборот. Жили они в его доме, стоявшем на Вознесенском проспекте (ныне пр. Майорова), в Третьей Адмиралтейской части, расположенной между Екатерининским каналом и Фонтанкой.
Нет никаких конкретных данных, как протекала жизнь Алексея Яковлева в доме Шапошникова. Известно лишь, что мальчик каждодневно оказывался на набережной Невы, у Летнего сада. Там, вблизи дворцовых прачечных, около которых протекает Фонтанка с переброшенным через нее мостом (до сих пор носящим название Прачечного), по свидетельству его приятеля с юношеских лет Григория Жебелева, Шапошников снимал помещение для своей лавки.
Торговавший неподалеку от лавки Шапошникова Григорий Жебелев еще до знакомства с Алексеем Яковлевым почувствовал к сцене непреодолимое влечение. Побывав в театре на Царицыном лугу, где представляли "Дмитрия Самозванца" Сумарокова с Шушериным в главной роли, он, по собственному признанию, "совершенно обезумел". И заразил своим "безумием" Алексея, которому не довелось до этого еще побывать на сценическом действе. Пробравшись в зрительный зал, по рассказу Жебелева "а gratis" (без билетов), на самую верхотуру, они от восторга совсем "голову потеряли". А затем стали с приятелями сами разыгрывать у Жебелева трагедии, причем Яковлеву доставались женские роли. Просуществовала их домашняя труппа из четырех человек недолго. Где-то около 1791 года Жебелев познакомился через портного, у которого когда-то служил мальчиком на посылках, с Яковом Емельяновичем Шушериным. И упросил знаменитого актера взять его с собой в Москву для поступления на сцену.
О дальнейших событиях в жизни Яковлева один из первых биографов его П. Свиньин повествует так: "Не имея более товарища и друга... а потому чувствуя всю тягость своего состояния, потребовал от своего опекуна свободы. Твердость, с какою скромный юноша в первый раз предстал пред угрюмого опекуна своего, заставила согласиться на его желания и выдать ему наследие его, состоявшее из 1800 рублей".
Буквально вырвав у Шапошникова свой капитал, девятнадцатилетний Алексей Яковлев для начала снял так называемое окошко под № 67 в Зеркальной (идущей по Садовой) линии Гостиного двора. Таких окошек с прилавком в Гостином дворе было много. В них торговали мелочным товаром; аренда их стоила значительно дешевле, чем наем помещений с входными дверьми и кладовыми, где обычно хозяйствовали более состоятельные купцы. Занялся он уже знакомым ему галантерейным делом. Съездил за товаром на ярмарки в прибалтийские города: Юрьев, Ревель и Нарву. Товар разложил в окошке с присущим ему артистизмом. На том и закончилась его забота о продаже. Ни зазывать покупателей, ни уговаривать их, ни даже предлагать товар Яковлев не стал. Сидя целые дни в "окошке", читал книги, сочинял стихи, декламировал вслух.
За этим занятием и приметил его один из директоров Ассигнационного банка, находившегося на Садовой, рядом с Гостиным двором, Николай Иванович Перепечин. Получивший университетское образование преуспевающий чиновник был одержим неустанным стремлением находить одаренных людей. Открытие одного из талантов и сохранило фамилию его для потомков. Прожив пятьдесят лет и дослужившись до чина тайного советника, Николай Иванович, как утверждает краткая справка "Русского биографического словаря", "заслужил память о себе тем, что обнаружил талант известного впоследствии трагика А. С. Яковлева, которому оказывал покровительство и содействовал определению его на сцену".
В 1793 году, через два года после отъезда Жебелева в Москву, была издана пьеса ""Отчаянный любовник (Трагическое происшествие)" сочинения санкт-петербургского купца А... Я...". Пьесе было предпослано посвящение: "Милостивому государю Николаю Ивановичу Перепечину", подписанное полным именем: "Алексей Яковлев".
В стихотворной пьесе, всего из нескольких явлений, сюжетом которой послужило самоубийство в Петербурге гвардейского офицера, было много чувствительности и пыла. Но характеры едва намечены, сюжет не завершен. Что же касается стихов... то прав один из современников Яковлева, заметивший: "...конечно, эти стихи нехороши. Но они... по-тогдашнему могли возбудить всеобщее внимание и удивление. Особливо от поэта-самоучки". Поставлена пьеса на сцене не была. А в кружке Перепечина похвалы заслужила.
Интерес у Яковлева к торговле пропал начисто. Расставшись с "окошком" в солидном Гостином дворе, Яковлев приобрел легковесную "овечку" - небольшой столик со шкафчиком, в который укладывал незатейливые товары: галантерейную мелочь и лубочные картинки. "Паслась" его "овечка" в торговой бирже на Стрелке Васильевского острова всего несколько часов в день (что очень устраивало молодого поэта). Но концы с концами ему едва-едва удавалось сводить. От наследства уже почти ничего не осталось. Вот-вот должен был наступить крах.
Положение было бы безвыходным, если бы Перепечин не познакомил Яковлева с Иваном Афанасьевичем Дмитревским. Тот, сразу почувствовав в молодом купце актерский талант, как уже говорилось, подготовил его к вступлению на сценическое поприще.
* * *
Дебюты Алексея Яковлева состоялись на петербургской сцене в июне 1794 года в ролях Оскольда, Синава и Доранта - персонажа комедии Кампистрона "Ревнивый, из заблуждения выведенный".
"При первом появлении на театре, - вспоминал его биограф в статье, напечатанной журналом "Северный наблюдатель" сразу после смерти Яковлева, - он привел в восхищение зрителей. Высокий и статный рост, правильные и выразительные черты лица, голос полный и в возвышении яркий, выговор необыкновенно внятный и чистый и, наконец, чувствительность и жар, часто вырывающийся из пламенной души его, предвозвестили уже в нем артиста, долженствующего сделать честь нашему театру".
11 августа 1794 года князь Юсупов подписал следующее "определение дирекции над зрелищами и музыкой":
"Санкт-петербургского купца Алексея Яковлева, как он желание имеет служить при театре и по предварительному испытанию актером быть может, в театральную дирекцию принять, с жалованьем из остающейся от 1-го числа сентября нынешнего 1794 года суммы, театральным служителям положенной, в год по триста по пятидесяти рублей, да на квартиру, дрова и вместо казенного экипажа сто рублей. В продолжение ж бытности его - Яковлева актером, доколе в службе сей дирекции существовать будет и от купечества к другим должностям не выберут, играть ему беспрекословно в трагедиях и комедиях первые и вторые роли... также прочие всякие роли, которые от дирекции приказаны ему будут. О чем сие определение объявить с подпискою".
И Яковлев написал на нем: "Сие определение читал и во исполнение подписуюсь. Санкт-петербургский купец Алексей Яковлев".
По-прежнему числясь в сословии купцов, обязанных платить подушные подати, он получил право называться актером придворного театра. На протяжении следующего, 1795 года все главные роли амплуа Первого любовника русского репертуара отошли к нему. Что же касается самого Дмитревского, то, по сообщению биографа Яковлева, "с этого времени он являлся только в своих лучших, коронных ролях, по преимуществу в амплуа благородных отцов и резонеров в комедии...".
Отношения Яковлева с Дмитревским были непростыми. К первым годам пребывания на сцене Яковлева биографы относят его слова: "Хорошо или дурно я играть буду, о том пусть решает публика; а уж обезьяною никогда не буду". Яковлев сразу начал отстаивать свою индивидуальность. Дмитревский же, "умный и осторожный старик, - рассказывал Жихарев, - рассчитывая, что с расположением публики к молодому артисту шутить небезопасно... своенравного... юношу провозгласил под рукою лучшим и любимейшим учеником своим, присовокупив, однако ж, к тому, что он упрямец и большой неслух".
Осложняло их отношения и многое другое. Рассказывая о сценической судьбе Алексея Семеновича Яковлева, нельзя сразу же не коснуться истории его любви, в значительной мере определившей характер его "исповеднического искусства".
На сценические подмостки он ступил одновременно с другой ученицей Дмитревского - Александрой Дмитриевной Каратыгиной, также зачисленной в штат театральной дирекции вместе с мужем своим Андреем Васильевичем Каратыгиным.
Александра Дмитриевна стала главной партнершей Яковлева. Она прочно вошла в его личную жизнь.
"Яковлев влюбился, - писал один из первых биографов Яковлева Рафаил Зотов. - При пламенных его чувствах и пылком воображении, развитых сценической жизнью, страсть его должна быть самая сильная, самая необузданная. Предмет его страсти была замужняя женщина из театрального круга, и, следственно, обладание ею было невозможно".
Когда зародилось это пронесенное через всю его жизнь чувство? О нем Яковлев рассказал в своих, увы, далеко не безупречных по форме стихотворениях, свидетельствующих, что и А. Д. Каратыгина к нему какое-то время была неравнодушна:
День, мне в жизни незабвенный, Будь навеки мною чтим; От Аглаи я бесценной Слышал слово: ты любим!
Стихи, посвященные ей, по всей видимости, относятся к концу XVIII и к первому десятилетию XIX века. Последнее из них - "Мрачные мысли", самое значительное по биографическим данным, написанное в 1810 году, позволяет говорить о драматизме их "горького романа":
...Как вершины древ кудрявые Меж собою ищут сблизиться, Но стремленьем тока быстрого Друг от друга отделяются, Так подобно рок жестокий мой, Мне увидеть дав волшебницу, Воспретил мне быть ей спутником На стезях тернистых жизни сей!
Многие стихотворения Яковлева сопровождает одна и та же мысль: "О, как счастлив тот супруг, у кого супруга - друг!" В них он осуждает того, кто нарушает библейские заповеди "не укради" и "не прелюбодействуй": "Он в свете любит лишь себя: за мнимым счастием несется, приобрести его печется, и ближних и себя губя". Сокрушается о судьбах тех, "кому честь, совесть не препона для насыщения страстей!..".
А сам все более упорно несется за этим "мнимым счастием". И все с большей силой устами своих героев раскрывает необузданность страстей, охватывающих людей неординарных, противоречивых, противоборствующих не только с недругами, но и с самим собой.
Кого же играл тогда Яковлев?
Самой яркой, даже программной, оказалась для Яковлева роль Магомета, которую он исполнял с перерывами около полутора десятков лет.
Трактовка ее была определена в свое время Дмитревским. И стихийно переосмыслена Яковлевым уже при первом приобщении его к трагедии Вольтера. Именно в ней резко проявилась индивидуальность молодого актера, отнюдь не соответствующая представлениям Дмитревского об идеальных качествах лицедея.
В роли Магомета началось восхождение Яковлева как актера самобытного, ни на кого не похожего. Но с ее исполнения наметился и его разлад с теми, кто являлся тогда в театре законодателем.
Магомет Яковлева был не только олицетворением зла, которое несет в себе любой фанатизм, но и живым воплощением противоречий этого зла. Его Магомет любил и страдал. И в минуту ревности терял присущую правителю гордую непреклонность. Любовь не очищала его. Но приоткрывала, что в объявившем себя полубогом злодее бьется человеческое, исполненное тщеславия и страсти сердце.
Все это нарушало заданный Вольтером (а также русским переводчиком "Магомета" Павлом Потемкиным) ритм исполнения (которому неукоснительно следовал Дмитревский). И вносило дисгармонию в актерское решение, которую не терпел классицистский театр. Но это же и брало в плен зрителей, обещая неведомые ранее ощущения.
Между тем Дмитревский передал Яковлеву роль еще одного героя-злодея из своего коронного репертуара - Дмитрия Самозванца. О том, как играл Яковлев роль сумароковского Самозванца, не осталось никаких свидетельств. Но в том, что играл он ее как "неслух", сомневаться не приходится.
Темперамента хватило бы ему не на одну роль. Не к чему было "экономить" сильный голос. Он не терпел заранее придуманных эффектов. Не чувствовал тяготения к ролям рационально-аналитического склада. Его Самозванец, подобно Магомету, был человеком, страстно любившим и не менее страстно ревнующим. Но то была любовь и ревность тирана, несущего гибель окружающим и себе самому.
Входя в давно поставленные, много раз игранные спектакли, Яковлев был вынужден следовать за Дмитревским во всем, что касалось внешнего рисунка роли: принимать готовые мизансцены, стараться придерживаться тщательно разработанной системы интонаций, надевать нелепые с точки зрения исторической правды костюмы. Но с узаконенным Дмитревским внешним рисунком ролей все сильнее вступало в конфликт собственное актерское нутро начинающего актера.
С наибольшей силой оно дало себя знать в прославленной позже роли Яковлева - дикого, но пламенного Ярба в трагедии Княжнина "Дидона", которая будто специально была создана для него. Не случайно слова "дикий, но пламенный" употребит потом Пушкин уже по отношению к самому актеру.
Роль Ярба Яковлев сыграл на первом своем бенефисе - 27 мая 1796 года. Полученный через год и девять месяцев после поступления на сцену, бенефис красноречиво свидетельствовал о том, какое высокое место занял молодой актер. Бенефисы в то время получали лишь избранные, самые знаменитые, прослужившие в театре не один десяток лет.
Пройдет полвека, и известный писатель Сергей Тимофеевич Аксаков с дистанции своего времени назовет роль Ярба "нелепейшей". "Цельное исполнение ее, - скажет он, - невозможно. Ярб должен буквально беситься все четыре акта, на что, конечно, недостанет никакого огня и чего никакие силы человеческие вынесть не могут..." И приведет в качестве примера своего любимого актера - Якова Емельяновича Шушерина, сказав, что тот, "для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пьесы и характеру Ярба. ... Так поступал Шушерин всегда, - утверждает Аксаков, - так поступали и другие, и так поступал Дмитревский в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину".
Между тем воспоминания об игре Яковлева в роли Ярба говорят о другом. Они свидетельствуют именно о цельности характера и о "драматической истине представляемого лица". Роль Ярба соответствовала психофизическим данным Яковлева. Ярость бессилия любви, охватившей человека сильного и тщеславного, определяла на протяжении всей трагедии игру Яковлева. И эта безрассудная страсть, противопоставленная рассудочной любви счастливого соперника Ярба Энея, влекла к гибели Дидону - ту, ради которой Ярб готов был пойти на любую муку. Но если Дмитревский методично, сцена за сценой, раскрывая зло, которое несла за собой лишенная разума любовь, приводил зрителя к осуждению ее, то Яковлев заставлял сочувствовать своему герою, противопоставившему себя богам.
По описанию Жихарева, он неоднократно прибегал к "глухому полуголосу", к "поражающей пантомиме", "хотя без малейшего неистовства", и только в нескольких случаях дозволял себе разразиться "воплем какого-то необъяснимо радостного исступления, производившим в зрителях невольное содрогание". Выразительность лица, звучность голоса и даже, "если хотите, сама естественность" исполнения Яковлева позволили Жихареву отнести роль Ярба к лучшим творениям актера.
Жихарев видел своего кумира в роли Ярба много лет спустя после первого бенефиса Яковлева. Время отточило, отшлифовало первоначально найденное, отбросило заимствованное, сделало самостоятельной игру актера. Но путь к освоению роли наметился уже тогда - в памятном для Алексея Семеновича 1796 году. Бенефис упрочил славу молодого Яковлева. Вскоре после этого он сыграл еще одну ставшую для него знаменательной роль. 29 июня того же года петербургские зрители впервые увидели пьесу немецкого драматурга Августа Коцебу "Сын любви". В ней Яковлев явился в облике простого солдата Фрица.
Коцебу... Сколько в его адрес было сказано потом насмешливо-уничижительных слов! И сколько слез пролито на его ловко скроенных драмах, наспех написанных, но отмеченных несомненной одаренностью! И в скольких из них нашли свои главные роли актеры, привнесшие в исполнение ролей собственные раздумья о людях и человеческих судьбах!
Откровенный честолюбец, бесстыдный приспособленец, готовый добиться любыми средствами успеха, он был беспринципен и даже, как сказали бы теперь, беззастенчиво спекулятивен. Он не стал провозвестником или хотя бы приверженцем прогрессивных идей просветительской сентименталистской драмы. Но в целях собственного утверждения не раз пользовался ими, облекая их в сценически яркие, доходчивые формы. Образы несчастных, вольнолюбивых, разочарованных жизнью его героев порою обретали сценическую правду, вызывая сочувствие зрительного зала. Дешевая слащавость, которая, как правило, наличествовала в пьесах Коцебу, уходила на задний план, согретая подлинным, живым чувством исполнителей. Но для этого нужны были поистине большие актеры. Таким актером уже в те годы, о которых идет речь, был Яковлев. А потом "могучий, грозный чародей" Павел Мочалов, завещавший похоронить себя в костюме Мейнау - одного из героев Коцебу.
Ролью Фрица начинался для Яковлева новый этап.
"Яковлев попал тут собственным художественным инстинктом в свою колею...- скажет в середине XIX века Рафаил Зотов. - В немецких пьесах он впервые понял сам силу своего таланта, то есть когда увидел возможность играть естественно и передавать зрителям глубокие чувства души, не становясь на ходули декламации".
Драматическую роль Яковлев поднял до трагического звучания. В сентименталистскую драму внес первые романтические тональности. И если Ярб в исполнении Яковлева предвещал его будущего Отелло, то Фриц, незаконнорожденный сын крестьянки и знатного барона, вступившийся за честь своей матери, был первым, пусть еле намеченным, штрихом его тоже будущего Карла Моора.
Классицизм, сентиментализм, романтизм на русской сцене... Они не занимали здесь локальных пространств, последовательно сменяя друг друга. Утвердив себя на Западе в виде самостоятельных направлений в разное время, они прорывались на русскую сцену в конце XVIII века, чутко откликавшуюся на европейские театральные перемены, почти одновременно в виде причудливого переплетения. Актеры подхватывали их тенденции чаще всего интуитивно, опираясь на русифицированную переводную драматургию.
Яковлев не примеривался к ролям, а примерял их на себя. И если они оказывались ему "впору", то начинали в его исполнении жить куда более сложной жизнью, чем позволяла на первый взгляд их драматургическая основа. Так случилось с ролью Кларандона в драме Бомарше "Евгения", которую Яковлев впервые сыграл 5 октября 1796 года. Так случилось и с ролью Фрица в "Сыне любви".
Пьесу Коцебу не только несколько раз под гром рукоплесканий повторяют в Малом театре на Царицыном лугу (где идут в основном русские драматические спектакли), но и допускают на сцену вельможного Таврического дворца. Вместе со своими приближенными там ее смотрит Екатерина II, до тех пор неодобрительно отзывавшаяся о Коцебу. После представления "Сына любви" императрица выражает актерам свое удовольствие. И особо отмечает исполнителя главной роли - Алексея Яковлева.
Для начинающего актера благоволение императрицы означало многое, вселяло большие надежды. Но время вносило свои коррективы.
5 ноября 1796 года было назначено представление в Эрмитажном театре комедии Екатерины II "Недоразумение", главную роль в которой по-прежнему исполнял Дмитревский. Но в тот день с императрицей "случился удар". А затем последовала и ее смерть.
Век Екатерины II пришел к концу.
* * *
По всей стране объявили траур. Ни о каких выступлениях на сцене не могло быть и речи. Спектакли возобновились лишь после коронации Павла, осенью 1797 года, на дворцовой сцене в его любимой Гатчине. 7 сентября постановкой драмы Коцебу "Ненависть к людям и раскаяние" там открылся первый послетраурный театральный сезон. Пьеса эта отвечала вкусам нового императора, в котором сентиментальная чувствительность, желание быть справедливым уживались с постоянной подозрительностью, с не знающей предела жестокостью и неожиданным порой раскаянием.
Павел I сидел в первом ряду, у самого оркестра, и мог видеть малейшие изменения лиц игравших актеров. Он внимательно следил за их мимикой, движениями и первый начинал рукоплескать, подавая знак к всеобщему одобрению. Окружавшая императора свита смотрела больше на него, чем на актеров. Ибо придворные зрители, которые посмели бы "плескать руками, когда его величеству одобрение объявить было неугодно", а также те, кто воздерживался "от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров", строго наказывались и не допускались более на придворные представления.
"Ненависть к людям и раскаяние" Павел I смотрел несколько раз.
Через десять лет "Ненависть к людям и раскаяние" увидит Жихарев и зафиксирует, как Яковлев играл барона Мейнау. "Чем больше вижу Яковлева на сцене, - напишет он в своем дневнике 11 февраля 1807 года, - тем больше удивляюсь этому человеку. Сегодня он поразил меня в роли Мейнау в драме "Ненависть к людям и раскаяние". Какой талант! Вообще я не большой охотник до коцебятины, как называет князь Горчаков драмы Коцебу, однако ж Яковлев умел до такой степени растрогать меня, что я, благодаря ему, вышел из театра почти с полным уважением к автору... Роль мадам Миллер, то есть Эйлалии, играла Каратыгина прекрасно. В игре этой актрисы много драматического чувства, много безыскусственной простоты, которая действует на душу и нечувствительно увлекает ее. Эта женщина вполне обладает, как говорят французы, даром слез... Это лучшая Эйлалия из всех доселе виденных мною".
С роли Эйлалии, страдающей от того, что когда-то она оставила не только мужа, но и детей, началось в искусстве Каратыгиной раскрытие темы материнской любви, которой прославится она впоследствии.
"Пошлый Мейнау Коцебу вырастал у него в лицо, полное почти байроновской меланхолии", - скажет потом Аполлон Григорьев об игре Павла Мочалова в "Ненависти к людям и раскаянии". У Яковлева образ "пошлого Мейнау" обретал трагическое звучание.
Из бегло намеченной драматургией мелодраматической схемы Яковлев с годами сотворит образ, близкий собственному трагически-противоречивому духовному миру.
"Глубоко проникнутый своею ролью, он передал зрителю все свои чувства и мысли, - констатировал Рафаил Зотов. - Он уже был не в живописном костюме, уже не распевал шестистопные стихи... он был одет в сюртуке и говорил просто и трогательно".
Он играл эту роль на протяжении всей жизни. Разумеется, с годами духовно изменялся он сам. Изменялся в чем-то и его Мейнау. Но уже с самого начала окраска роли Мейнау была резко индивидуальной. Не озлобленность и ненависть двигали поступками героя, а скрытая под их личиной не истребимая ничем любовь. Любовь превращала ненависть в сострадание, говорила о необходимости более широкого взгляда на узы брака. И в то же время обрекала героя на муки одиночества.
"Теперь драмы Коцебу исчезли со сцены, - писал Рафаил Зотов в середине XIX века.- Они нам кажутся слишком просты, обыкновенны. Нам нужно что-нибудь сильное, новое. Но тогда-то они-то и составляли это условие, это всегдашнее требование каждого века... Теперь нам совестно смотреть Коцебу, но род этой литературы всегда будет существовать с некоторыми изменениями, требуемыми веком и вкусом. Обыкновенный быт человеческого общества ближе к сердцу".
Успех пьес Коцебу в Гатчине в значительной степени определял репертуар русской труппы на придворной сцене. Но представления для широкого круга зрителей было приказано открыть не сентиментальной драмой, а трагедией Вольтера "Альзира" в помещении Большого театра, где теперь выступали все петербургские труппы. Только что заново переоборудованный и роскошно отделанный Малый театр по приказанию Павла был снесен в одну ночь несколькими сотнями пригнанных на Царицын луг солдат. Мельпомена, по мановению руки императора, уступила место воинственному Марсу.?
* * *
Окончательно заняв место главного трагического актера, Яковлев получил в доме Зейдлера отдельную, хотя и небольшую, квартиру. Жалованья ему прибавили. В октябре 1798 года князь Юсупов подписал следующий приказ: "По представлению российской труппы инспектора Ивана Дмитревского и в поощрение службы актеру Алексею Яковлеву, к получаемому им ныне жалованью 450-ти рублям производить еще 150 рублей в год, а всего 600 рублей, считая оную прибавку с 1 числа сентября..." Кроме прибавки Яковлеву выдали единовременную "репрезентацию" - 600 рублей. Да еще последовало распоряжение выплачивать ему и в будущие годы дополнительно по 500 рублей, при казенной квартире и восьми саженях дров. Если же вместо "репрезентации" он захочет иметь бенефис, то было приказано давать ему "и оный". Прибавку к жалованью получила и Каратыгина. Как и Яковлев, она имела теперь 600 рублей жалованья, при казенной квартире и восьми саженях дров. Однако "репрезентации" ее не удостоили. Вместе с мужем, Андреем Васильевичем, получали они теперь столько, сколько имел один Алексей Семенович, - 1100 рублей в год.
Он вошел в ту когорту актеров, которые не только играли главные роли, но в какой-то степени и определяли репертуар.
В театр принес пьесу мало кому известный тогда как литератор чиновник лесного департамента (а впоследствии и его глава) Владислав Александрович Озеров. Пятиактная трагедия его в стихах "Ярополк и Олег", созданная в стиле классицистских традиций, где откровенное подражание Расину уживалось с аллюзионным осмыслением отечественной истории, была далека от совершенства. Но в ней уже по-новому звучали стихи - легко произносимые, приближенные к разговорной речи. Намечались образы, в которых добро сочеталось со злом, преступные действия отягощались муками сомнений. Все это с наибольшей силой выявлялось в характере главного героя - русского князя Ярополка.
Ярополк был правителем слабовольным, легко поддающимся чужому влиянию и наговорам. Он непрестанно мучился угрызениями совести, переменял решения, оказывался человеком, неверным своему слову. Неуравновешенность характера Ярополка давала возможность действовать "во зло" его советнику Свенальду.
В коварной зыбкости атмосферы, царившей вокруг Ярополка, и крылась известная злободневность пьесы Озерова. Ассоциативная сущность трагедии выявилась не в пресловутом конфликте чувства и долга, а в противоречивости образа главного героя, низменные инстинкты которого разжигал хитрый и подлый наперсник.
На роль Ярополка Яковлев делал главную ставку. Надежда его потерпела крушение. Поставленная в Большом театре 16 мая 1798 года, трагедия "Ярополк и Олег", по словам Пимена Арапова, имела "успех исключительный". А с репертуара была снята. В ней углядели намек на фаворитов Павла I - "брадобрея" Ивана Кутайсова и уже "прославившегося" злобным садизмом Аракчеева.
Неуверенность людей в завтрашнем дне, зависимость от нелепого случая, постоянная угроза доносов возрастали с каждым днем.
Сумбур царил теперь и на подчиненной Павлу I сцене. Косясь на возвышенного Екатериной II князя Юсупова, Павел во все театральные дела вмешивался сам. Он поощрял, казалось бы, спектакли русских актеров. И нещадно их сокращал. Мог незатейливо пошутить с Александрой Каратыгиной, миролюбиво поиронизировать над Дмитревским, поощрить молодое дарование. И тут же жестоко их оскорблял. Запретил придворным разговаривать на французском языке, разогнал французскую труппу. И сразу же набрал новую, повелев платить стоявшим во главе ее супругам Шевалье жалованье свыше 10 000 рублей! Да еще оставил у мадам Шевалье пустые бланки со своей подписью. При их помощи ловкая француженка сколотила себе такое богатство, которое и не снилось русским "высоким чинам".
Через пять месяцев после снятия с репертуара "Ярополка и Олега" в театре разразилась еще более бурная гроза, связанная с "Ябедой" Капниста. Поначалу все складывалось в пользу комедии. Издав до этого не один указ о борьбе с лихоимством, Павел I не только не препятствовал постановке "Ябеды" на сцене, но и разрешил автору посвятить ее себе. В театре перед премьерой царила праздничная атмосфера. Стихотворную "Ябеду" театралы сразу отнесли к высоким образцам русской сатирической комедии. С полной отдачей готовили свои роли актеры. Необыкновенно хорош был Антон Михайлович Крутицкий, создав колоритный образ основного мздоимца, председателя гражданской палаты Кривосудова. Превосходен был и Яковлев в роли противника и жертвы "ябеды" - честного полковника Прямикова.
Триумфально выступила русская труппа на премьере "Ябеды" в Большом театре 22 августа 1798 года. Спектакль повторили через четыре дня, а затем показали его 16 и 20 сентября. В императорской типографии тем временем была отпечатана пьеса "с дозволения санкт-петербургской цензуры... Иждивением г. Крутицкого". На ее обложке солнечные лучи озаряли вензель императора. Внизу сидела Истина, перстом указывающая на строку из знаменитой оды Ломоносова: "Тобой поставлю суд правдивый". Сбоку плясал веселый, торжествующий фавн со свирелью.
Но "идиллия" была необыкновенно краткой. Не успели отзвучать аплодисменты по случаю победы над Кривосудовым (в пьесе Капниста, как известно, судейские взяточники терпят поражение), не успела высохнуть краска на отпечатанных экземплярах комедии, как "ябеда" собственной персоной восторжествовала в жизни. По наветам "чиновного люда" 23 октября 1798 года Павел I повелел прекратить ее представление.
А еще через три дня у актера Крутицкого полиция забрала весь отпечатанный тираж "Ябеды". Испуганно выглядывали в ту ночь жители из окон дома Петровых на Садовой, куда вместе с другими актерами переехали из дома Зейдлера и Яковлев, и Каратыгины, и Дмитревский. Случившееся нашло отражение в дневнике Андрея Васильевича Каратыгина, который сделал тогда рядом с упоминанием о спектакле "Ябеды" следующую запись: "Автор дал право с надписью "За талант" печатать и продавать в пользу г. Крутицкого. Несколько экземпляров было продано и роздано действующим актерам, но в ночь на 26-е число захватили у г. Крутицкого остальные и запретили играть по повелению государя".
Под влиянием минуты карал, возвышал, низводил, ссылал и миловал своих верноподданных Павел I. И менял повсюду должностных лиц, пытаясь найти себе точку опоры. Подозревая кого-либо, он тут же вверялся ему и снова подозревал. И прежде всего тех, кто верой и правдой служил Екатерине II. Дошла очередь и до князя Николая Борисовича Юсупова. 14 февраля 1799 года был издан указ: "Соображая штаты двора нашего, нами утвержденные, повелеваю быть главным над театральными зрелищами директором нашему оберкамергеру графу Шереметеву. Павел".
Николай Петрович Шереметев пробыл на посту директора театра всего шесть недель. Да и те пали на время великого поста, когда спектакли не шли. Директорство Шереметева ничем не ознаменовало русский театр. Вероятно, можно было бы о нем и не упоминать, если бы в его архиве не остались два эпистолярных документа, которые ярко рисуют положение актеров.
В угоду императору новый директор попытался улучшить иностранные труппы, которыми все больше и больше увлекался Павел I. Для того чтобы заполучить европейских знаменитостей, он обратился к русскому послу в Лондоне С. Р. Воронцову. И получил от него впечатляющий ответ.
"Ваши предшественники, - отчитывал Воронцов Шереметева, - директора театра... мне навязывали подобные поручения, и я от них отказывался... От времени до времени я призываю к себе певиц и певцов для концертов, за которые я плачу; но, ненавидя всегда общество людей театра, я не имею никакой связи с ними... Никогда в жизни я не возьму на себя этой ответственности, никогда я не буду порукой нравов и правил людей театра... До августа Вы еще отлично успеете прямо обратиться к какому-нибудь банкиру, негоцианту или кому-нибудь, кто усердно посещает театры. Кто бы он ни был, он в миллион раз больше будет в состоянии Вас удовлетворить, чем имеющий честь быть, граф, вашего сиятельства смиреннейший и покорнейший слуга граф Воронцов".
Уязвленный Шереметев написал не менее желчный ответ. Попросив извинения у Воронцова за "поручение", которое тот считает "настолько ниже" своего образа мыслей, Шереметев ставил в известность "министра государя", что он обратился к тому с подобным поручением по праву обер-камергера. "Я также думал, - продолжал язвить Шереметев, - доставить Вам этим случай удовлетворить нашего Августейшего Повелителя, который, думаю, вполне заслуживает, чтобы на минуту позаботились о его отдохновении, так как сам он столь серьезно занят нашим счастьем и счастьем всей Европы..." Что же касается отношения к "презираемым за свое ремесло" актерам, то сам Шереметев, разумеется, полностью разделяет мнение графа: "Мы признаем в этих людей только способности, проявляемые ими на театре, и свойства, которые они выказывают в наших передних, не имея других с ними сношений, могущих быть, как Вы это очень умно замечаете, предосудительными для наших лет, рождения, чина и должности..."
Так писал Николай Петрович Шереметев, один из самых образованных людей своего времени, страстно увлеченный сценой, вскоре женившийся на крепостной актрисе Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой!
...А со сцены подвластного Шереметеву публичного театра в переделанной будущим профессором Московского университета Н. Н. Сандуновым драме Дидро "Отец семейства" неслись слова благородного Чадолюбова: "Аршин полотна, вышедший из рук искусного живописца, для меня дороже многих наших грамот". И повторяли про себя актеры значительно вычерненный цензорским карандашом монолог, который должен был произносить живописец Бедняков: "Когда я работаю, то почитаю себя выше всякого князя, графа; не потаю от вас даже, скажу правду, - выше самого государя: я представляю себя творцом своего дела... Лоскутку холстины даю я тело и душу; могу делать бессмертными людей и их дела. А ведь это, как ни говори, граф, делает честь и земле, где я родился?"
И молодой премьер Яковлев, игравший в "Отце семейства" беспутного дворянина Любима, сочинил не без влияния драмы Сандунова еще одну свою стихотворную пьесу.
Что благороден ты, то делом докажи; Трудись для общества, не на ухо жужжи... Картину написать трудней, чем прожужжать. Воззвать из вечности героя-полубога, Бездушной краскою им вид и душу дать Ты ставишь ни во что?.. Тебе ль искусство знать... Вон, вон из мастерской! -
восклицал в одноактной пьесе Яковлева "Наушник, или Разговор живописца с подьячим" живописец, выгоняя насмехавшегося над ним подьячего. И слышал в ответ торжествующий, увы, во все времена крик подьячего:
Вот выехал сюда еще какой оратор! Да ты что ни болтай, а все я - регистратор!
Актеры находились в полной власти чиновничьего произвола, степень проявления которого была в прямой зависимости от личности, возглавлявшей театральную иерархию.
После шести недель управления императорскими театрами Шереметеву в конце концов удается "по состоянию здоровья" сбросить с себя тяготившую его должность директора. 28 марта 1798 года был издан новый указ императора: "Господин обер-гофмаршал Нарышкин, по поводу прошения нашего обер-камергера графа Шереметева об увольнении его от управления дирекцией над театральными зрелищами, не переменяя штатов, нами утвержденных, Вам препоручаем сию комиссию, и принять оную часть в ведение Ваше. Пребывая к вам благосклонен. Павел".
Ближайший родственник Романовых, любимец Павла I, Александр Львович Нарышкин власть имел большую. Характер - живой, непостоянный, легкомысленный. Был беспринципен, уживчив, угодлив, подобострастен к вышестоящим. Это, вероятно, и позволило ему удержаться на посту театрального директора около двадцати лет.
На первых порах он показался актерам менее властолюбивым и более справедливым, чем его предшественники. С почетом уже окончательно проводил на пенсию Дмитревского. Резко увеличил, до 1500 рублей, жалованье Яковлеву, несшему на своих плечах вместе с Каратыгиной весь репертуар русской труппы. Способствовал тому, чтобы во главе репертуарной части встал такой талантливый, образованный и неподкупный человек, каким был Капнист. Не препятствовал оживлению сцены новыми постановками, в которых могли бы с наибольшей силой проявиться таланты исполнителей (и которые, разумеется, пришлись бы по вкусу императору). Так была возобновлена для Яковлева драма Сорена "Беверлей", роль главного героя которой он блистательно сыграл.
Между тем в мире, окружавшем Яковлева, становится все неприютнее. Нарышкин во всем старается предупредить желания императора. У Павла I настроения продолжают меняться ежесекундно. Отказавшись вначале от французских спектаклей, в 1799-1800 годах он смотрит их чуть не ежедневно. Начинается заигрывание с Наполеоном. Французская речь снова звучит беспрепятственно. По записям камер-фурьерского журнала, отражавшим увеселения высочайших особ, в 1799 году фигурирует 77 французских спектаклей, 5 итальянских и ни одного русского. В 1800 году картина мало меняется: французских спектаклей упоминается 65, итальянских - 1, русских же по-прежнему - ни одного.
Резко падает количество русских спектаклей, показанных и на публичной сцене. Газета "Петербургские ведомости" извещает своих читателей, что с послепасхального времени 1800 года (после пасхи начинался новый сезон) до великого поста (когда сезон заканчивался) 1801 года из 200 спектаклей, которые комплектует дирекция, 60 будет французских, 30 - итальянских и 30 - русских, остальные - балеты.
Как и всё в России, театральная жизнь при Павле I военизируется, приобретая казарменный оттенок. 31 января 1800 года высочайшей волей строго предписано: "Всем служащим, господам актерам и музыкантам... отныне носить мундиры, а статским - кафтаны, и имеют позволение и шпаги". В это же время разработана строжайшая инструкция, каким образом и кому продавать билеты: "Поступать так, чтобы первый ярус занимаем был полными генералами и другими чиновниками". Строго приказано "крайне наблюдать, дабы абонированны на годичное время ложи и кресла заниманы были теми самыми особами, кому даны билеты..." Что же касается актеров, то их в зрительный зал повелено "не прежде впущать, как уже пьеса начнется... Буде же театр за деньги зрителями наполнен, то... в таком случае... не пущать". За кулисами тоже приказано соблюдать строжайшую дисциплину. Смотреть спектакль актерам не разрешается и там. А для того велено по обе стороны кулис "ставить по одному унтеру, дабы не впущали тех, кому на сцене быть не должно; к тому же еще два унтера определить, дабы ходили за кулисами...".
Жизнь кулис под присмотром унтеров! Актеры, одетые в нелепые мундиры. Сколько несообразности, сколько вымученного во всем этом...
На сцене русского театра в основном идут пьесы Коцебу, который в начале царствования Павла I побывал в сибирской ссылке по обвинению в "якобинских расположениях", затем, написав ультрамонархическую пьесу, приобрел императорское благоволение, сделался директором придворной немецкой труппы, получил дворянство, а также чин надворного советника.
В одной из его драм Яковлева ожидал особенно шумный успех. Само название пьесы звучало для того времени знаменательно: "Граф Вальтрон, или Воинская подчиненность". Не менее символичны были и ее благородные герои - немецкие офицеры, для полного удовольствия Павла I "костюмированные", по выражению Андрея Каратыгина, со "всей исправностью, от мундира до форменной трости". На подмостках (согласно режиссерским пометкам на оригинале рукописи) отдавали по всем правилам приказания офицеры. Четко "делали на караул" солдаты. Барабаны били тревогу. То и дело раздавались пушечные выстрелы. В полной офицерской амуниции ходил храбрый граф Вальтрон - Яковлев, которому был вынесен смертный приговор за несоблюдение субординации: он позволил себе броситься со шпагой на своего соперника, старше его по чину. Граф Вальтрон мучился, граф Вальтрон испытывал угрызения совести: "Я сам изрыл себе пропасть, из которой никто извлечь меня не может..."
Но его "извлекал из пропасти" наследный принц, которому он когда-то спас жизнь. Узнав об отмене приговора, граф Вальтрон в охватившем его экстазе бросался в бой с неприятелем, восклицая, что "будет достоин милости государя". Словам его аккомпанировал бой барабанов. "Тревога продолжалась". Занавес опускался.
Роль Вальтрона была мелка и пуста. Но успех ее показателен. Павел I остался чрезвычайно доволен спектаклем.
Этой ролью Яковлев закончил выступления в 1800 году. Что можно еще сказать о его жизни в канун наступавшего XIX века? Она в значительной части остается белым пятном в его биографии. Известно лишь, что выступал он на рубеже веков мало. Объяснялось это и резким снижением представлений русской труппы, и тем, что в конце 1800 года снова появился в столице Яков Емельянович Шушерин, вызванный по велению Нарышкина из Москвы для пополнения петербургской труппы. Шушерин поглядывал на Яковлева не без завистливой усмешки, надеясь на свое отточенное годами мастерство. Не побоявшись молодого соперника, выступил в его признанных ролях: Фрица в "Сыне любви" и Беверлея. И "не прошел", как говорится, у публики, завороженной игрой нового кумира.
Сам он об этом рассказывал С. Т. Аксакову так: "Я не вдруг приобрел благосклонность петербургской публики, у которой всегда было какое-то предубеждение и даже презрение к московским актерам... но я уверен, что непременно бы добился полного благоволения в Петербурге, если б... не появился А. С. Яковлев... Нечего и говорить, что бог одарил его всем... Яковлев был так принят публикой, что, я думаю, и самого Дмитревского во время его славы так не принимали... Я не хочу перед тобой запираться и уверять, что успех Яковлева не был мне досаден. Скажу откровенно, что он чуть не убил меня совсем... Если б не надежда на пенсию, на кусок хлеба под старость, то я не остался бы и ни одной недели в Петербурге... Горько было мне, любезный друг, очень горько! Положим, Яковлев талант, да за что же оскорблять меня?.."
В надежде на пенсию Шушерин пробыл в Петербурге до 1811 года (после чего уехал обратно в Москву). И великолепно сыграл не одну роль, надевая седой парик: царя Эдипа, короля Леара (Лира)... Но в ролях молодых героев он с Яковлевым больше не пытался состязаться. Впрочем, тогда, в 1801 году, и его молодому сопернику надолго пришлось прервать свои выступления.
В феврале спектакли вовсе прекратились. Начался великий пост. Актерам разрешено было петь лишь по воскресеньям псалмы "до особого впредь приказания императора". Но приказаний Павла I на сей счет больше не последовало.
История совершила еще один кругооборот. В конце великого поста, в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, "по неисповедимым судьбам", как зафиксировал камер-фурьерский журнал, "угодно было всемогущему богу прекратить жизнь его императорского величества". На престол взошел цесаревич Александр.
* * *
Уверения нового императора, что он будет править в духе бабки своей Екатерины II, как будто начали осуществляться. Возвращались из "отдаленных мест" ссыльные. Дворянство обрело былые привилегии.
Раскрепощались тела людей, сбрасывая неуклюжие наряды времен Павла I. Раскрепощались понемножку и души подданных императора Александра I. Либеральные речи, организация всевозможных комитетов свидетельствовали о его желании усовершенствовать систему управления государством. Поговаривали даже об отмене крепостного права... За всеми начинаниями виделся благословенный лик идеального государя, который угодно было надеть на себя новому императору. Истинное лицо "властителя слабого и лукавого", заклейменного потом Пушкиным, было скрыто обильным туманом обещаний, ласковых улыбок, томных взглядов, изощренной "естественностью" отрепетированных перед зеркалом поз. "Дней Александровых прекрасное начало..." - называл это время тот же Александр Сергеевич Пушкин.
В театре сразу почувствовали облегчение. Александр I видел в нем еще один подчиненный ему "департамент", но, поскольку был назначен траур, временно бездействующий. И вмешиваться в его дела на первых порах не стал. Срочно предстояло решить, пожалуй, лишь один вопрос: как быть с директором императорских театров, любимцем Павла I, обер-гофмаршалом Александром Львовичем Нарышкиным?
С внешне спокойным, слегка озабоченным лицом, без привычных острот, еще так недавно преданнейший Павлу I Нарышкин теперь повсюду объявлял, что "переворот был необходимым для блага государства", что "сам он чувствовал себя в постоянной опасности", что "такую жизнь не мог бы более вынести" и что "теперь одного желает - спокойствия и желания путешествовать".
Но как директор театра он явно находился в растерянности.
Сценическое безвременье привело к потере ориентации в репертуаре. Все оглядывались на нового императора в любом деле, в любом начинании. Он же прямых указаний не давал.
Русская труппа открыла свой послетраурный сезон на сцене Большого театра пышным зрелищным представлением, с пантомимой и балетом, трагедии Княжнина "Титово милосердие", в котором Яковлев изображал мудрого, прекрасного собой, справедливого монарха Тита, вступающего на престол. То была единственная его роль в начале нового сезона.
Но спектакли длились меньше недели. С 25 апреля 1802 года Большой театр по повелению нового императора поступил в распоряжение зодчего Тома де Томона для существенной перестройки. Русские драматические актеры снова были вынуждены более месяца бездействовать.
С июня, правда, дирекция договорилась с частным предпринимателем Казасси о выступлениях императорских актеров в его стоящем у Аничкова дворца не очень большом, однако удобном для зрителей театре. Но спектакли там вначале шли нерегулярно. Да и новые постановки появились не сразу.
Во время вынужденного безделья, по-видимому, и перебрались актеры на новое жилье.
По приказу Нарышкина А. Н. Клушин был привлечен к "сочинению" "отчетов о домах театральной дирекции". Ему и обязаны мы тем, что, при всей скудности дошедших до нас бытовых подробностей, можно точно представить себе, в каком помещении жили в 1802 году актеры, переехав из дома Петровых в здание, принадлежащее столярному мастеру Вальху, стоявшее на углу Екатерининского канала и Средней Подьяческой улицы. Оно было трехэтажным, каменным, двадцатисемиквартирным, крыто черепицей пополам с листовым железом. Окна его закрывались створчатыми ставнями. Парадные лестницы белились известью. Вокруг дома располагались четыре освещавших его фонаря (что по тому времени встречалось не часто). Внутри дома имелся двор с деревянными сараями, выходившими на Среднюю Подьяческую.
Двухкомнатная квартира Яковлева помещалась на втором, среднем, этаже. Там же находились квартиры остальных "первых сюжетов" (так именовали тогда главных актеров: Крутицкого, Каратыгиных), а также "пробное зало". Холостяцкая квартира Алексея Семеновича, в отличие от остальных, не имела кухни. Но комнаты были просторными - в два окна, с голландскими изразцовыми печами. Перед ними находились сени. Сени же выходили на "стеклянную галерею с одним окном". Другие актеры, обремененные семьями, жили более стесненно.
Дирекция платила деньги Вальху несвоевременно, да и договор заключила с ним, по его мнению, невыгодный. И он вымещал это на ни в чем не повинных жильцах. Актеры жаловались на него в дирекцию театров, что и послужило причиной обращения ее к государю со всеподданнейшей просьбой увеличить сумму на наем домов. А чтобы Александру I "не показалось обширным или несоразмерным пространство, занимаемое в оных жильцами", к прошению добавлялась опись, из которой можно было видеть, "что жильцов стеснить больше нету возможности". Государь решил этот вопрос не сразу. Актеры еще два года теснились в доме Вальха.
Вынужденное бездействие, невыплата жалованья, неуверенность в завтрашнем дне создавали нервную обстановку за кулисами. Ушел в отставку Капнист. В ожидании своей участи придирался к актерам Нарышкин. Почти не расширялся сценический репертуар.
20 июня 1802 года была показана нашумевшая драма в трех действиях Н. И. Ильина "Лиза, или Торжество благодарности".
Ко дню представления этого спектакля русская публика уже десять лет зачитывалась простодушной и трогательной "Бедной Лизой" Карамзина. "Лиза" Ильина появилась под ее влиянием.
В пьесе звучали руссоистские мотивы "естественного человека". Она была одним из немногих русских оригинальных образцов просветительской драмы. Сентименталистские особенности пьесы уловили и превосходно воплотили на петербургской сцене лучшие актеры: Лизу играла Каратыгина, удочерившего ее крестьянина Федора - Крутицкий, полковника Прямосердова - Шушерин. Яковлев исполнял роль влюбленного в простую крестьянку Лизу благородного дворянина Лиодора. В роли этой Яковлев возвращался к теме, которую пытался решить когда-то в своем несовершенном драматургическом творении "Отчаянный любовник". "Не титло пышное, душа нас возвышает..." - утверждал тогда его герой. "На что мне тысячи душ без настоящей души!" - восклицал теперь Лиодор.
Представление драмы Ильина возбудило неумеренные восторги. Она долгое время не сходила со сцены. Поставленная в бенефис А. Д. Каратыгиной "Лиза, или Торжество благодарности", по воспоминаниям С. Т. Аксакова, произвела такое сильное впечатление, "какого не было до тех пор... Публика и плакала навзрыд, и хлопала до неистовства". И все же одна успешно принятая драма в репертуаре русской труппы, как говорится, не делала погоды. Наступивший 1803 год не принес русской труппе чего-либо интересного. Времена при воцарении Александра I стали либеральные, декларации об этом следовали за декларациями. Здесь бы и оживиться русскому театру. А репертуар театра беднел и беднел.
Своеобразный фурор произвела постановка еще одной "Лизы", созданной приятелем Яковлева, надворным советником иностранной коллегии В. М. Федоровым, человеком незлобивым, но безвкусным и недостаточно умным. Драмам его, лишенным таланта, не без одобрения высочайших особ был открыт свободный доступ на императорскую сцену.
Яковлев с Каратыгиной выступали в драме В. М. Федорова "Лиза, или Следствие гордости и обольщения", прямо заимствованной, как было сказано в афише, автором из повести Карамзина. Но во что превращена была "Бедная Лиза"!
"Лизу оплакивают; из Лизиной истории сочиняют драму; Лизу превращают из бедной крестьянки в дочь дворянина, во внучку знатного барина; утонувшей Лизе возвращают жизнь; Лизу выдают замуж за любезного ей Эраста, и тень Лизы не завидует теперь знаменитости Агамемнона, Ахиллеса, Улисса и прочих героев "Илиады" и "Одиссеи"", - иронически отзывался журнал "Вестник Европы" в 1811 году о "Лизе" Федорова.
В отличие от "Лизы" Ильина она была пропитана слащавым и подобострастным монархизмом.
"Конец 1803 года, - читаем мы в летописи Пимена Арапова, - заключился представлением попеременно: "Лизы" Ильина и "Лизы" Федорова, и "Русалки", которую публика любила видеть по преимуществу; была возобновлена опера "Февей", несколько раз сыграна драма "Рекрутский набор", и 31 декабря шла опять "Русалка"".
В трогательной, с антикрепостнической направленностью, драме Ильина "Рекрутский набор" Яковлев не играл. В сказочной опере "Февей", сочиненной когда-то Екатериной II, - также. Что же касается пресловутой "Русалки", то пройдет несколько лет, и он с величайшим презрением скажет: "Право, скоро заставят играть Видостана в "Русалке"".
Но в год, о котором идет речь, ему пришлось сыграть и эту роль в первых двух из четырех, поставленных в разные годы, частях феерической "Лесты, или Днепровской русалки" (вольной переработке комической оперы Ф. Кауэра "Фея Дуная").
Дирекция прекрасно понимала: от подобных зрелищ, в которых, по меткому выражению Жихарева, "столько чертовщины, что христианину смотреть страшно и в будни, не токмо в праздники", можно получить большой доход (и не получить нареканий!). Она всячески содействовала постановке "Русалки", обставив ее роскошными декорациями, сложной машинерией, красочными костюмами и лучшими актерскими силами.
Таково было положение петербургского театра в начале царствования Александра I, когда появился там в качестве ближайшего помощника Нарышкина по репертуарной части будущий известный драматург и страстный театрал Александр Александрович Шаховской.
* * *
До конца жизни не будет знать покоя этот картавящий, пришептывающий, с маленькими острыми глазками и огромным птичьим носом, быстро семенящий короткими ножками, одержимый театром человек. Он быстро сходился с людьми и так же быстро наживал в них врагов, бесконечно ошибался, противоречил сам себе. Его неоднократно (и не без основания) упрекали в пристрастии к кому-либо или к чему-либо и в сопутствующей этому несправедливости. Но ему были чужды чиновничье равнодушие, холодный эгоистический расчет. С его приходом начала оживляться русская сцена. Весьма скоро обретший прежнюю уверенность, Нарышкин дал ему немалую власть.
Сам Александр I непосредственно не занимался театром. Он имел достаточно компетентных чиновников. И предпочитал (как, впрочем, и в ряде других дел) спрашивать с них, а не опекать. Это позволяло как будто бы проявляться инициативе. А на самом деле чаще всего сковывало ее: самостоятельно действовать чиновники боялись, оглядывались на вышестоящих, вышестоящие же пытались предугадать оценку их действий императором, который в своих поступках, как известно, был весьма и весьма непоследователен.
Нарышкин умел одним из первых улавливать малейшие колебания придворной атмосферы. 30 апреля 1804 года последовал его приказ конторе театральной дирекции: "Чтобы актеры и танцовщики ведомства театральной дирекции не подавали мне никаких бумаг иначе как через своих инспекторов; или бы относились с таковыми в сию контору к господину советчику репертуарной части князю Шаховскому, который, доведя их до сведения моего, будет получать от меня надлежащие по оным приказания". И "советчик репертуарной части" с энтузиазмом принялся за дело.
Начало нового, 1805 года ознаменовалось возобновлением старой трагедии. На своем бенефисе 30 января Яковлев сыграл роль Росслава.
Давно умерший "переимчивый" Княжнин еще имел успех у публики. Аллюзионная сущность трагедии, созданной во времена Екатерины II, не потеряла своей актуальности и при ее внуке:
Цари! Вас смерть зовет пред суд необходимый, Свидетель вам - ваш век, судья неумолимый... И смерть, срывая с вас багряную порфиру, Кто вы, являет то попранну вами миру.
23 мая 1805 года "с дозволения правительства" была снова допущена на сцену крамольная "Ябеда". Из прежних исполнителей в ней играли лишь Яковлев, с тем же успехом выступивший в роли Прямикова, да Андрей Васильевич Каратыгин, вновь исполнивший роль стряпчего Паролькина. "Ябеда" вызвала огромный интерес. И новые надежды на молодого русского императора. "Она опять позволена! - с упоением восклицал рецензент "Северного вестника". И добавлял:- Комедия "Ябеда" не есть один только забавный идеал, и очень верить можно злоупотреблениям, в ней представленным; это зеркало, в котором увидят себя многие, как скоро только захотят в него посмотреться... Г-да актеры разыгрывают эту пьесу, по-моему, удачно".
Как бы в укрепление этих надежд "Ябеде" рукоплескал сам государь. И где! На празднике, устроенном в его честь на даче Нарышкина, стоящей в тринадцати верстах от Петербурга. Каких только зрелищ не было на этом празднике! Все труппы петербургского театра и воспитанницы участвовали в нем. "Ябеда" же была представлена вместе с другой комедией - "Вестникова с семьей", когда-то сочиненной Екатериной II.
Государь смеялся на представлении комедии Екатерины II. Смеялся также и на представлении "Ябеды". Показ ее на публичных театрах не запретил. Но почему-то она после появления на домашнем театре Нарышкина будто сама по себе, будто без всякого нажима соскользнула с постоянного репертуара императорской сцены, несмотря на полные сборы и более чем сенсационный успех... Как все это было в духе царствования Александра I, разрабатывавшего дальнейшие пути развития России с умнейшим реформатором Сперанским и вскоре провозгласившего своей правой рукой тупого садиста Аракчеева!
А время требовало новых пьес. 1805 год сгустит кровавые тучи над головами русских людей. Уже недалек тот час, когда русские войска отправятся далеко за пределы своей страны. Шенграбенский бой с наполеоновскими войсками разразится осенью 1805 года. Тот самый бой, за который немногие из оставшихся в живых героев получат в награду медаль с надписью: "Один против пяти"...
13 августа русские солдаты двинутся в военный поход. В начале сентября на театр военных действий отправится считавший себя великим полководцем император Александр I. В преддверии грядущих событий с особым эффектом прозвучат 30 августа речи сыгранного Яковлевым карамзинского героя, идущего "за Русь" на поле брани, - Алексея Любославского в постановке "Наталья - боярская дочь".
Но карамзинское направление в то время уже начинает терять на русской сцене свое значение. Все настойчивее начинает наступать на сентименталистскую драму Шаховской. Убежденный классицист, талантливый комедиограф, он стремится стать "русским Мольером". И одновременно ищет героическую отечественную трагедию.
Князю Шаховскому нужна новая, никогда не ставившаяся на петербургской сцене пьеса, которую авторы подготовили бы под его, князя, руководством. И Шаховской еще в 1804 году нашел такую пьесу: трагедию Озерова "Эдип в Афинах". А вместе с ней обрел и такую актрису, которая прославила эту трагедию: Екатерину Семенову, ставшую с того времени основной партнершей Яковлева. Но о ней подробно речь пойдет в следующей главе.
* * *
Позже, говоря о произведениях Озерова, Жуковского и Батюшкова, Белинский скажет: "Языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа".
Поставленный 23 сентября 1804 года "Эдип в Афинах", как бы сплавляя в себе воедино принципы высокой трагедии (в прежнем, классицистском ее понимании) и руссоистские традиции сентименталистской драмы (с ее культом чувствований "естественного человека"), предвещал качественно новое направление. Переживания, размышления героев о бренности жизни, о ее смысле, выраженные в элегически-лирической интонации, определяли смысл трагедии.
В "Эдипе в Афинах" Яковлеву досталась роль со злободневно-острыми ассоциациями - мудрого и доблестного афинского царя Тезея.
Вера в прогрессивность учреждаемых императором всевозможных комитетов, в усовершенствование государственной системы, которая должна привести к благополучию народа, еще не покачнулась.
Где на законах власть царей установленна, Сразить то общество не может и вселенна,-
с гордостью возглашал в трагедии Озерова Тезей. И слова его вызывали восторженную бурю в зрительном зале.
Как уже говорилось, недалек был тот час, когда русские войска поспешат в Австрию для борьбы с Наполеоном. Но тогда, в 1804-м, еще у всех на слуху были обещания Александра I (данные во время заключения Россией со странами Европы Амьенского мира), что он не допустит военных действий. Зрители только что великолепно построенного Тома де Томоном пятиярусного Большого театра (на месте обветшавшего, созданного когда-то по проекту Ринальди) исступленно аплодировали благородному Тезею - Яковлеву, который с гордым достоинством вещал хитрому посланцу Фив Креону, призывавшему Афины возглавить военные действия:
Для славы суетной, мечтательной и лживой Не обнажу меча к войне несправедливой!.. Лавр трону есть краса, но мирные оливы - Сень благородная для общества всего.
Величественный, "сладкогласный", с одухотворенным лицом, Яковлев был единственным в то время на петербургской сцене актером, который с наибольшей силой мог донести до зрителей и политический смысл трагедии, и ее поэтический ритм.
И все же Яковлев не был в упоении от Тезея. В роли Тезея он не находил того, что свойственно было его искренней, но противоречивой натуре. Ему нравилась трагедия Озерова, с которым он, по словам мемуаристов, "подружился". С вдохновением читал он из нее отдельные строки.
"С каким чувством и с какою благородною греческою простотою, - восхищался Жихарев, - произносил он два стиха:
Родится человек лет несколько поцвесть, Потом - скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть".
Но то были отрывки из монологов несчастного Эдипа, которого с большим чувством играл Шушерин, а не благополучного Тезея. Роль Тезея Яковлев мастерски, чуть нараспев, как читают поэты, декламировал. В других ролях - жил. Так, воспользовавшись успехом этой трагедии, он опять сыграл роль - желанную, когда-то насильно отторгнутую от него, в первой пьесе Озерова "Ярополк и Олег": роль слабовольного, неверного своему слову, во всем противоположного Тезею правителя. Но, поставив ее на своем бенефисе, из-за распрей с дирекцией Яковлев сыграл в ней всего один раз.
Более, чем Тезея, была близка ему и роль Фингала в одноименной трагедии Озерова, которая увидела свет 8 декабря 1805 года.
Сюжет "Фингала" взят из знаменитых "Песен шотландского барда Оссиана". Своеобразный оссиановский романтизм с его мрачным северным колоритом воспринимался Озеровым (как и многими другими русскими литераторами) в несколько смягченном аспекте. Не случайно, говоря о "Песнях Оссиана", Карамзин восклицал: "Глубокая меланхолия, иногда нежная, но всегда трогательная... приводит читателя в некоторое уныние, но душа наша любит предаваться унынию сего рода..."
Лирико-элегическое начало определяло весь строй спектакля.
Средневековые с античными деталями костюмы. Торжественное звучание хоров, сопровождавшее все три действия трагедии. Звучные, исполненные страстной любви и не менее страстной ненависти монологи героев, стоявших на фоне унылых, пустынных скал. Мужественная красота и благородное достоинство Фингала, созданного Яковлевым. Очарование его возлюбленной Моины - только что зачисленной в штат театра юной Семеновой. Отточенный Шушериным рисунок роли ее отца, коварного локлинского царя Старна, из чувства кровавой мести стремящегося погубить главного героя. Превосходные балетные и пантомимные сцены, перемежающие драматические эпизоды. Все это отличалось подлинным вкусом, слаженностью, великолепным мастерством.
В роли Фингала, по характеристике современников, "употреблялись самые простые, обыкновенные выражения и обороты". Хотя она тоже была в какой-то степени декламаторской. Но образ доблестного морвенского вождя определяли романтические черты всепоглощающей любви, столь свойственные Яковлеву на сцене и в жизни.
Мифология, определявшая содержание "Фингала", не только погружала в созерцательные размышления. Упоминание о беспощадном боге войны Одене, которому поклонялся жестокий Старн, вольно или невольно вызывало ассоциации с тем, что происходило в окружающем мире.
После трагического поражения русских под Аустерлицем в декабре 1805 года тревожная атмосфера военного времени в России сгущалась все более и более. Послушно склонив перед Францией голову, бескровно сдала Вену Австрия. Готовился занять Берлин опьяненный "солнцем Аустерлица" Наполеон. Вернулись на родину плененные им в боях русские воины. Военные события назревали где-то там, за пределами России. Но поражение под Аустерлицем еще свежо было в памяти людей.
Может быть, именно поэтому и воспринимали они с таким страстным сопереживанием каждый намек на боль, на горе, которые сопутствуют войне. Может, именно поэтому те слезы, тот гражданский порыв, которые сопровождали третьесортную, чувствительнейшую из чувствительных драм Коцебу "Гуситы под Наумбургом", впервые показанную в Петербурге 18 мая 1806 года, и определили ее прочный громкий успех.
Яковлев играл в ней мужественного, стойкого "гражданина Наумбурга" Вольфа, пытавшегося спасти родной город ценою возможной гибели своих детей. Каратыгина - его жену Берфу, которая ради защиты родного Наумбурга с муками отпускала их в стан врагов.
За два года до этого объявивший себя императором Наполеон завоевывал город за городом. Россия вступила еще в одну коалицию с Пруссией, Англией и Швецией против Франции.
То было в августе и в сентябре. В октябре же после недельных сражений под Иеной и Ауерштедтом, по образному выражению Гейне, "Наполеон дунул на Пруссию, и она перестала существовать". 16 ноября в России был опубликован новый царский манифест о войне с Францией. Русская армия направилась к Польше. Кровопролитное сражение у Пултуска 14 декабря продолжалось один день, унесло тысячи жизней, многих превратило в калек. И не дало обеим сторонам ни одного пленного, ни одного знамени. Но каждая из воюющих сторон считала его своей победой.
Весть о "победе" у Пултуска быстро донеслась до Петербурга. Уже 19 декабря Степан Жихарев с упоением записывал в свой дневник: "Всюду радость, и на всех веселые лица. Курьер из армии прибыл и привез известие о победе, одержанной генералом Беннигсеном при Пултуске... Мы дали себя знать, и первый блин не комом!"
В русской столице все с нетерпением ожидали постановки на сцене новой трагедии Озерова "Димитрий Донской", которая, по ходившим слухам, "была произведением гениальным". Она "является очень кстати в теперешних обстоятельствах, - рассуждал Жихарев, - потому что наполнена множеством патриотических стихов, которые во время представления должны произвести необыкновенный эффект".
Она и произвела "необыкновенный эффект". Жихарев убедился в этом очень скоро, побывав на спектакле 14 января 1807 года.
"Я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо, да, признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Боже мой, боже мой! что это за трагедия "Димитрий Донской" и что за Димитрий - Яковлев! какое действие производил этот человек на публику - это непостижимо и невероятно! Я сидел в креслах и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу - словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни; были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 р. и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали "браво!" наравне с нами..."
По многочисленным свидетельствам, слова Димитрия - Яковлева буквально врезались в память людей, которые уже после первого представления повторяли стихотворные строки, сразу же становившиеся злободневно "крылатыми":
Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!.. Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой: Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой...
Группами, с непросохшими глазами, собирались зрители в антрактах. Тут и там слышались панегирики Яковлеву.
Когда же, завершая трагедию, Яковлев, стоя на коленях, произнес последние слова раненного в бою Димитрия: "Языки ведайте: велик российский бог!", признание было единодушным - Яковлев превзошел сам себя.
"Конечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, - как бы подытоживал общее зрительское восприятие первого представления "Димитрия Донского" Жихарев, - стихи бесподобные, но играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику; зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними словами".
В "Димитрии Донском" была сходная с современной ситуация: военная угроза России и ожидание дальнейшего развития событий, которые должны решить ее судьбу. Но не только актуальностью сюжета влекла к себе трагедия Озерова такого актера, каким был Яковлев.
Димитрий Яковлева был верным патриотом. Но, так же как и Фингал, он был страстным возлюбленным. Для него понятие родины сливалось с понятием любви. Защищая отечество, он шел и на защиту любимой им Ксении. Отстаивая до конца свое право любить, он считал это долгом не меньшим, чем защищать родную землю. Чувство и долг у него смыкались, превращаясь в единое понятие: честь.
Димитрий Донской подымался у Яковлева до своеобразного романтического героя - отверженного, непонятого, верного своим убеждениям, со всей широтой натуры, идущего на смерть во имя любви и гражданского долга. Отказываясь от возлюбленной по ее воле, дабы не было розни из-за ревности в русском войске, он продолжал жить ради спасения родины, но для себя в бою искал лишь смерти.
В отличие от Фингала Димитрий был мужем зрелым, который понимал, какая огромная ответственность лежит на нем - полководце "всея Руси". Таким он представал в древних летописях. Таким явился он и в спектакле.
Разумеется, понятие "историчность" здесь толковалось еще весьма узко и односторонне. Озеров стремился, выражаясь языком Пушкина, "переселиться" в век, им изображенный, но то была первая, робкая, во многом компромиссная попытка. За это будет упрекать его Пушкин. Многое не принимал в "Димитрии Донском" и Державин (правда, с других, чем Пушкин, позиций).
"Ну конечно, - уклончиво, по своему обычаю, отвечал Державину Дмитревский, - иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны... Да обстоятельства не те, чтоб критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех..."
Оценка Дмитревского была во многом справедлива. Хотя просто "кстати" явился не "Димитрий Донской", а другой спектакль.
Яковлев выступил в нем через четыре с лишним месяца после битвы русских с французами при Прейсиш-Эйлау, в конце января 1807 года. То была одна из самых жестоких битв начала века.
13 апреля прусский король Фридрих-Вильгельм и Александр I заключили еще один союз, обязывающий их не вступать ни в какие соглашения с Наполеоном до тех пор, пока французская армия не будет отброшена за Рейн. Стоявший во главе русской армии Беннигсен начал готовить свои войска к сражению.
А на петербургской сцене репетировалась новая патриотическая трагедия "Пожарский", написанная до сих пор никому не известным подпоручиком в отставке двадцатишестилетним Матвеем Васильевичем Крюковским. Трагедию свою Крюковский долго не решался отдавать на сцену, но о ней поговаривали уже с января. Ожидали от нее успеха не меньшего, чем от "Димитрия Донского". Яковлев же, прослушав ее у Дмитревского в середине марта, вдруг сделался "печален и задумчив". А затем как-то без всякого воодушевления сказал Жихареву: "Роль Пожарского славная для меня роль, потому что мне аплодировать станут так, что затрещит театр..."
И театр действительно на премьере "Пожарского", состоявшейся 21 мая 1807 года, уже при появлении Яковлева на сцене "затрещал". Монологам Пожарского (на которых держится весь смысл трагедии Крюковского), продекламированным с величайшим чувством и силой Яковлевым, аплодировали так, что он то и дело вынужден был замолкать на несколько минут.
"С таким восторгом приняты были почти все стихи из его роли, которая состоит из афоризмов и декламаций о любви к отечеству, - фиксировал в день премьеры Жихарев.- На трактацию сюжета и роли других актеров публика не обращала никакого внимания: она занималась одним Пожарским - Яковлевым; и лишь только он появлялся, аплодисменты и крики возобновлялись с большею силою..." И не без полемического задора восклицал: ""Пьеса кстати, пьеса кстати!"... А разве этого мало?.. Я сам знаю, что пьеса Крюковского посредственна, да и самые стихи в роли Пожарского... пахнут сумароковщиной. Да какое до того дело?.."
Через одиннадцать дней у Фридланда, "среди кровава боя", выказав "едину страсть" и "чувства пылкие, творящие героев", тысячи русских людей полегли на поле сражения. Битва соотечественников Пожарского была проиграна. И не один россиянин повторял теперь вслед за Яковлевым:
Служа отечеству, со славой умирать, Не жертва тщетная, а праведная плата, Не крови дорога россиянам утрата, Но чести! что нам жизнь, когда ей спутник стыд, Когда в ней слабости являть все будет вид?..
* * *
Роль Пожарского, как и Димитрия Донского, принадлежала к амплуа безупречно доблестных царей и героев - Тита, Росслава, Тезея в озеровском "Эдипе". Обычно к подобного типа ролям Яковлев относился с откровенной иронией, говоря, что они ему "как-то не по душе". Роль Тита он считал зрелищно-оперной, не стоящей внимания трагического актера. В роли Тезея не видел развития ни одной страсти и, по собственным словам, всегда играл ее "с неудовольствием". Не меньшую неприязнь вызывала у него и любимая роль Дмитревского - княжнинский Росслав. "Нечего сказать, - говорил он, - уж роль! Хвастаешь, хвастаешь так, что иногда и, право, стыдно станет!"
Но в условиях начавшейся войны роли Димитрия Донского и Пожарского, их восторженный прием, разумеется, не могли не вдохновлять Яковлева. При всем том его продолжали тянуть к себе другие образы - более психологически углубленные, противоречивые и сложные.
В одной из таких ролей - "самых трогательных и страшных", какие только, по определению французского писателя Дюси, "породил человеческий гений", - он вышел на подмостки еще до премьеры "Димитрия Донского". И продолжал в ней выступать со всевозрастающим успехом.
Первое представление в России бессмертного "Отелло"... Оно было показано на сцене Большого театра 3 декабря 1806 года. Яковлев вывел венецианского мавра на подмостки в свой бенефис. На русской сцене, за исключением сумароковского "Гамлета", показанного более полувека назад, который, по собственному признанию автора, "кроме окончания третьего действия и Клавдиева падения на колени, на Шекспирову трагедию едва ли походил", ни одного произведения Шекспира тогда еще поставлено не было.
Появление "Отелло" в бенефис Яковлева стало событием чрезвычайным, хотя и здесь переводчик "Отелло" Иван Александрович Вельяминов, не зная английского языка, обратился всего лишь к классицистской обработке трагедии французом Дюси (правда, "поправив", в свою очередь, ее сюжетные ситуации и монологи при помощи честного пересказа содержания английского оригинала соотечественником Дюси - Летурнером).
Отелло стал одной из самых любимых ролей Яковлева. Он играл ее вдохновенно до конца жизни с Каратыгиной, создавшей образ кроткой, любящей Эдельмоны (так переименовал Вельяминов вслед за Дюси Дездемону).
Трактовку Отелло Яковлевым не приняли приверженцы классицизма. Не принял ее и Дмитревский, которому самому уже не суждено было сыграть Отелло, но который ревниво следил за всем, что делал его бывший ученик. С годами все больше и больше сказывалась разность не только их дарований, их воззрений на искусство, но и характер их поведения.
Знаменитое увертливое "как быть" Дмитревского доводило Яковлева до исступления. "Добро бы он хитрил с другими, - недоумевал Яковлев, - а то и со мною поступает точно так же..." - "Знаете ли, Алексей Семенович... - возражал ему Степан Жихарев, - я думаю, что он вовсе не хитрит с вами... Дмитревский смотрит на игру вашу как художник... ему надобно, чтобы вы заставили его плакать или поразили ужасом, оставаясь в пределах тех понятий, которые он составил себе об искусстве и вне которых для него нет превосходного актера".
Оба ценили преданность сцене. Оба отстаивали достоинство актера. Но какими разными средствами! Дмитревский, сбросив камзол и надев бархатный фрак, заменив пудреный парик на живописную прическу седых как лунь волос, а башмаки с блестящими пряжками - на плисовые сапоги, скользил среди новомодных нарядов в театральном фойе так же, как когда-то скользил среди фижм и расшитых бриллиантами камзолов в Эрмитажном театре екатерининских времен: с любезной маской царедворца на красивом, благородно удлиненном лице. Все чрезмерное казалось ему непристойным. В каждой похвале имелась возможность отступления. Любое осуждение прикрывалось галантностью. И за всем этим скрывалось упрямое свое, тайное, глубоко запрятанное.
Любя Дмитревского "как отца", Яковлев годами не посещал его, чем безмерно огорчал старого учителя. В свою очередь Дмитревский часто бывал недоволен Яковлевым за чрезмерную открытость чувств, за горделивое "бахвальство", за дерзостные поступки, за грубые ответы на свои уклончивые "комплименты", слыша которые Яковлев буквально взрывался. Нагрубив ему, Яковлев каялся, терзался угрызениями совести, опять просил прощения, радовался, что к нему придет "выпить пуншу стакан Афанасьич Иван", а при встрече чаще всего снова выходил из себя.
И не понимал, что увенчанный лаврами при жизни, всеми почитаемый член Российской академии, с мнением которого считались самые изысканные умы России, так же одинок и беззащитен в вечном чувстве самоутверждения художника, как и премьер петербургской сцены Яковлев, которому устраивают овации в зрительном зале и которого так часто пытаются поучать все кому не лень, в том числе и куда менее, как правило, смыслящие в сценическом искусстве чиновные вершители театральных судеб.
Да разве и сам он, Яковлев, насмешками над пришепетыванием Дмитревского, над слабостью груди не вкладывал перст в незаживающие раны старого учителя, вынужденного уступить ему место в храме Мельпомены, в котором особенно жестоко расправляется с людьми время?
Дмитревский же не упускал возможности продемонстрировать свое ровное, великолепно отшлифованное мастерство, особенно выгодно представавшее на фоне зависящего от внутреннего состояния "исповеднического" искусства молодого актера.
"Роль Отеллы ты играешь как сапожник, - отчитывал он Яковлева в присутствии Шушерина и Аксакова... - Что ты, например, сделал из превосходной сцены, когда призывают Отелло в сенат по жалобе Брабанцио? Где этот благородный, почтительный воин, этот скромный победитель, так искренно, так простодушно говорящий о том, чем понравился он Десдемоне? Кого ты играешь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и гляди что хватит в зубы кого-нибудь из сенаторов..." С этими словами дряхлый Дмитревский с живостью поднялся с кресел, стал посреди комнаты и проговорил наизусть почти до половины монолог, по описанию Аксакова, "с совершенною простотою, истиной и благородством... Жеста не было ни одного; почтительный голос его был тверд, произношение чисто..." С величайшим искусством превратился он в бодрого, хотя и немолодого Отелло.
Преподав блистательный урок декламаторского мастерства во вкусе классицизма, Дмитревский так ослабел, что Шушерин едва довел его до кресла. "Голос его дребезжал, язык пришепетывал, и голова тряслась".
"Если хочешь, душа моя Алеша, ведь я прежде всегда так называл тебя, - смягчившись, ласково пришепетывая, сказал он Яковлеву, - то приезжай ко мне; я пройду с тобой роль..."
Был или нет Яковлев у Дмитревского для прохождения роли Отелло, в мемуарах Аксакова упоминаний нет. Но роль "этот неслух" продолжал играть по-своему, совершенно в ином духе, чем хотел того старый учитель, - об этом свидетельствует не один их современник.
Отелло - Яковлев, по меткому определению одного из постоянных зрителей партера Голубева, выражал "лишь глубокое чувство сына степей... Когда он начинал свою оправдательную речь, глубокая тишина водворялась в театре и давала слышать каждое слово этого художника и удивляться его безыскусственной речи". Она была окрашена "чистосердечием", а не почтительностью.
Отелло - Яковлев был пылок, обижен подозрениями Брабанцио, неумерен в выражении чувств. Но речь его "отнюдь не сопровождалась ни криком, ни размашистыми жестами, а оканчивалась всегда слезами большей части зрителей, проникнутых участием к положению человека оклеветанного". "Склад речи" Отелло - Яковлева, по замечанию Голубева, нельзя было "назвать образцовым". В ней было мало узаконенного мастерства и слишком много души. Что и делало исполнение Отелло Яковлевым неприемлемым для Дмитревского.
Яковлев играл Отелло грубым воином с нежным сердцем. Подвигами он мечтал завоевать Эдельмону, но завидующий ему Пезарро (так переименовал вслед за Дюси шекспировского Яго Вельяминов) постепенно начинал разжигать его ревность. Все больше и больше мнимых улик неверности Эдельмоны подбрасывал Пезарро Отелло. Улики пробуждали сомнения. Сомнение, убивая веру в человека, вызывало дикую ярость. Ярость сменялась раскаяньем, а потом вспыхивала вновь с мучительной силой. И Отелло - Яковлев взрывался, с нестерпимой болью крича: "О, крови! Крови! Крови жажду я!"
Прямо глядя в глаза Эдельмоне, с убийственным хладнокровием произносил он имеющиеся во всех переделках и переводах шекспировские слова: "Молилась ли ты богу?.."
И вдруг неожиданно, "с величайшей нежностью", сам молил ее: "О! Будь еще невинна! Будь невинна!"
Но уже не мог противостоять безумию ревности. Он закалывал Эдельмону, согласно русскому переводу, кинжалом. И тут же, перед тем как убить и самого себя, с буйной силой поистине романтического героя проклинал себя за гибель возлюбленной: "Несчастный! Ты от ужаса содрогнешься. Ах! Куда убегнешь, чтобы укрыться от своей совести?"
"Не берусь описывать удивительную его игру", - утверждал Голубев. И добавлял: "Из всех пьес тогдашнего репертуара публика особенно любила игру Яковлева в "Отелло, Венецианский мавр". Даже во время летнего сезона трудно было получить билет на это представление".
Второе приобщение Яковлева к Шекспиру произошло через год: на бенефисе Я. Е. Шушерина 28 ноября 1807 года. Оно не дало Яковлеву той радости полного поглощения ролью, которую принес венецианский мавр. "Взятая из творений Шекспира", написанная прозой поэтом Гнедичем трагедия "Леар" (так назывался теперь "Король Лир"), по собственному признанию автора в предисловии к опубликованной позже трагедии, значительно отличалась и от английского оригинала, и от его французской переделки Дюси. Он "осмелился" не подражать ни Шексиру, ни Дюси. "Заимствовал у Шекспира некоторые положения и, переделав развязку трагедии, не почел нужным увенчать любовную страсть Эдгара и Корделии", которой Дюси, по его мнению, "унизил благородные чувства и великодушный подвиг сего рыцаря, защитника своего государя и несчастной царевны".
Роль Эдгара, сына графа Кента, вставшего на защиту Леара и Корделии, и играл Яковлев. Но она не вошла в число его основных ролей.
Значительно с большим удовольствием сыграл он на том же бенефисе Шушерина другую роль - в пьесе А. Дюваля "Влюбленный Шекспир", переведенной Д. И. Языковым. Как своеобразный пролог к "Леару" давалась эта маленькая комедия. С сюжетом ее русский читатель был знаком по статье журнала "Московский курьер", опубликованной в 1805 году. Такой человек, каким был в жизни Шекспир, утверждалось в ней, как будто "нарочно" сотворен для сцены. "Бесподобным и единственным в своем роде", "возвышенным", имеющим "веселый нрав", но бывающим "также серьезным" характеризовали Шекспира тогда и другие русские журналы.
Таким и сыграл его Яковлев в этой небольшой, с непритязательным сюжетом комедии, в основу которой был положен "анекдот" о том, как любил и ревновал "неподражаемый творец", сочиняя "Отелло": остроумным, блестящим собеседником, легко воспламеняющимся, дерзким с высокопоставленным соперником, беспредельно нежным в любви и нетерпимым в ревности к своей возлюбленной - актрисе Кларансе. В роли "влюбленного Шекспира" появились в актерской палитре Яковлева новые краски: светлые, с легкими полутенями и тонкими ироническими оттенками.
Одноактная комедия была дорога ему образом несравненного Шекспира. Вместе с "Отелло" Яковлев повез ее на гастроли в Москву.
Послала его туда театральная дирекция. Тревожная атмосфера в России не разрядилась. Временная передышка в битвах с наполеоновскими войсками сменилась войной со Швецией, а чуть позже - с Турцией. Патриотические страсти не угасали. Естественно, что в Москве только что построенный деревянный театр у Арбатских ворот дирекция хотела открыть "Димитрием Донским" и "Пожарским", для участия в которых и отправила в самом конце 1807 года туда Яковлева с восходящей в Петербурге звездой Семеновой, а также лучшими артистами балета: И. И. Вальберхом и Е. И. Колосовой.
Впервые предстать перед московской публикой Яковлеву довелось через десять дней после приезда - 17 января 1808 года в "Росславе". За "Росславом" последовали "Димитрий Донской" - 21 января, "Пожарский" - 24 января, "Отелло" - 31 января. Наряду с трагедиями играл он и в драмах: в "Гуситах под Наумбургом" - 8 февраля, в "Сыне любви" - 15 февраля. Коронные роли по требованию публики исполнил дважды: спектакли "Димитрий Донской" и "Отелло" повторили 3 и 10 февраля.
Принимали столичных актеров в Москве шумно. Несколько позже появилась статья в журнале "Аглая", где говорилось, что "пример г-на Яковлева, игравшего некоторое время на здешнем театре, содействовал много развитию способностей актеров". "Мы вскружили голову москвичам", - писал в Петербург своей жене Вальберх. Московские театралы одарили на прощание петербургских актеров драгоценностями. Мужчины получили золотые табакерки, на которых бриллиантовым блеском сверкали слова "за талант".
В середине марта петербургские актеры отправились обратно в столицу. Новый сезон они играли уже там.
* * *
Приблизительно к тому времени относятся основные воспоминания современников Яковлева, которые воссоздают его человеческий облик.
Сын Александры Дмитриевны Каратыгиной Петр Андреевич писал, что он хорошо помнит Яковлева, когда тому было лет тридцать пять. Тогда Яковлев "часто бывал" в их семье. "Это действительно был необыкновенный артист, - утверждал Петр Андреевич, - умный, добрый и честный человек, но, к несчастью, русская широкая его натура была слишком восприимчива, и он... предался грустной слабости... По словам моего отца, эта несчастная страсть появилась у Яковлева после первой его поездки в Москву..."
Тридцать пять лет Яковлеву исполнилось в 1808 году. О более позднем общении Яковлева с семейством Каратыгиных Петр Андреевич не упоминает. И, по-видимому, этому были причины. В том году Яковлев съезжает на частную квартиру из дома Кребса, где помещалось на Екатерининском канале (ныне канал Грибоедова, 93) театральное училище. (Там, переехав незадолго до того из дома Вальха, ютился он в помещении на первом этаже, между прачечной и дворницкой.) Совершенно отделяется от актеров. Начинает вести разгульную жизнь. Становится невыносимо дерзким с вышестоящими, молчаливо-мрачным среди равных. Пытается забыться в вине.
Объясняя, что это был за "снедающий пожар", приводивший его "к тому состоянию самозабвения", которое "производит опьянение", Жихарев видел его причину прежде всего в той, не покидающей Яковлева, "несчастной страстной любви, которая пожирала его существование".
Говоря о Яковлеве, Жихарев негодовал, возмущался теми, кто прилепил к "памяти актера, славе нашей сцены" ярлык "гуляки и горлана". Жихарев видел в этом "умышленное уничижение величайшего таланта, какой когда-либо являлся на нашем театре и, может быть... на театрах целого света". Он требовал, не защищая недостатков любимого актера, разбирать Яковлева "как человека, всего", "со всем беспристрастием", вникая в причины его "слабостей". "Этого требует не одна поверхностная снисходительность, но самая справедливость и человеколюбие", - утверждал он. Особенно если речь идет об умершем актере, у которого нет другой защиты, "кроме справедливых о нем отголосков его современников!".
"Разбирать" Яковлева "как человека, всего", "со всем беспристрастием", прислушиваясь к пристрастным отголоскам его современников, обязано и наше время.
Природа дала ему многое. На этом утверждении сходились все, кто писал о Яковлеве: и ярые приверженцы актера, и не менее яростные его недоброжелатели.
"Наружность его была прекрасна... Открытый лоб, глаза светлые и выразительные, рот небольшой, улыбка пленительная, память он имел необычайную", - вспоминал Жихарев.
"Талант огромный, - вторил ему куда менее восторженно относившийся к Яковлеву Аксаков, - одаренный всеми духовными и телесными средствами".
Даже желчный, преуспевающий чиновник Вигель и тот не мог в своих мемуарах не признать этого.
Почти все, кроме Ф. Ф. Вигеля, кто писал о нем, сходились на той характеристике, которую с наибольшей полнотой дал Жихарев: "Он был умен (не говорю, рассудителен), добр, чувствителен, честен, благороден, справедлив, щедр, набожен, одарен пылким воображением и - трезвый - задумчив, скромен и прост, как дитя..."
Яковлев много и углубленно читал, его влекли к себе книги философские и исторические, он пытался проникнуть в их суть, постоянно возвращаясь к проблемам бытия и смерти, поверяя прошлое настоящим, ища в истории сравнения для текущих дней.
Получая довольно высокое жалованье, он жил скромно, в холостяцкой квартире, с неизменным слугой Семеном, которого с ласковой усмешкой называл на латинский лад - Семениусом. Толстый, добродушный Семениус, ленивый и плутоватый, приносил для Яковлева и его гостей обеды из кухмистерской, потчуя их одновременно несусветным враньем, чем несказанно забавлял Яковлева.
Неуютным, неустроенным выглядело для посторонних жилье актера, одиноко сидевшего с книгой на диване около небольшого, покрытого цветной скатертью столика. С малознакомыми людьми Яковлев сходился трудно, больше слушал, изредко задавая скупые вопросы, и с напряжением, пытливо оценивал про себя ответы на них. Впервые увидевший его восемнадцатилетний Жихарев был удивлен, даже поражен тем, что подобный "огненному вулкану" на сцене актер имеет в жизни такую задумчивую физиономию и "говорит как бы нехотя и, кажется, вовсе не думает о том, что говорит", а только испытующе смотрит и слушает.
Снова и снова бросался он к своим настольным "вечным книгам": Библии и жизнеописаниям Плутарха. Но и там в смятении не находил непреложных истин. Он искал бога, "вездесущего и незримого", в себе, стремился постигнуть в своей душе начало начал добра и зла, и тут же восклицал:
Горы не можно дланью сдвинуть, Не может тварь творца постигнуть И тщетно силится к тому; Дух, в бренной плоти заключенный, Проникнет ли в чертог священный К отцу, к началу своему?
Его страстная вера в бога, в доброе начало человека была близка не менее страстному безверию, ибо он все подвергал сомнению. Он сам был противоречив и слишком далек от христианского завета всепрощения. И порою становился дерзким бунтарем, преступающим все законы приличия и канонизированные верования. И в своей вере, и в своем безверии он повсюду оставался максималистом, как и в своем страстном чувстве однолюба.
Воплощая образы людей беспокойных, со смятенной душой, он сам не случайно после смерти стал романтизированно-возвышенным героем мелодрамы режиссера Александринского театра Н. Куликова "Актер Яковлев", с успехом обошедшей многие русские театры во второй половине XIX столетия.
Будучи от природы человеком застенчивым, самоуглубленным, Яковлев был лишен всякого рационализма. "Минута решала у него все", - признавали близко знавшие его люди. А такие минуты наступали чаще всего в состоянии опьянения. Тогда и давали знать себя те "эксцентрические поступки", которые, по их же словам, не сошли бы с рук никому, кроме Яковлева. В этих поступках с особой широтой проявлялась и присущая ему чисто русская щедрость, и сопутствующие в опьянении ее уродливые тени - бесшабашное удальство, самолюбование, неудовлетворенное тщеславие.
"Самолюбие - чертов дар", - признавался он, имея в виду себя. Оно несомненно заставляло его творчески совершенствоваться. Но оно, также несомненно, и создавало о нем скандальную молву.
Так день за днем между этим умным, но "не рассудительным" (вспомним формулировку Жихарева), бесхитростным, но с уязвленным самолюбием, откровенным, искренним и в то же время сложным, погруженным в свои мысли человеком и другими - более обыденными людьми вырастала стена трагического непонимания. И полное одиночество.
* * *
Вторая половина 1808 года не привнесла в творческую жизнь Яковлева чего-либо существенного, играл он в основном старый репертуар. Все реже приходилось ему играть с Каратыгиной. Все чаще - с Семеновой.
Равных ему актеров на петербургской сцене не было. Шушерин доживал на сцене последние дни. Молодой Щенников, изредка выступавший в ролях Первого любовника, получал чаще всего нарекания. Ставший в Москве также актером Григорий Жебелев, не без протекции Яковлева перебравшийся в Петербург, играл роли простаков, или, как тогда говорили, "деми-характер". Никого из них с Яковлевым в Петербурге даже и не пытались сравнивать.
В 1809 году он получил еще прибавку к жалованью, которое составляло теперь с квартирными 3500 рублей в год ассигнациями.
8 апреля 1809 года Яковлев впервые сыграл роль, которая принесла особенно громкую славу, - роль Танкреда в одноименной пьесе Вольтера, переведенной Н. И. Гнедичем. В отличие от выступавшего в спектакле французской труппы Лароша, костюмированного при исполнении этой роли как оперный премьер (голубой плащ, каска с колыхающимися страусовыми перьями, мягкие сапоги с пряжкой), Танкред - Яковлев появлялся на фоне коричневых с серыми пятнами декораций, изображавших площадь средневековых Сиракуз, в светло-желтом колете, отороченном черным бархатом, со стальным шлемом, украшенным такого же цвета перьями. И с первого выхода на сцену представал рыцарем без страха и упрека, до последнего вздоха верным своей "прекрасной даме" Аменаиде, злодейски обманутой и оклеветанной.
Танкред считался всеми современниками Яковлева одной из лучших его ролей. К лучшим относили они и еще одну, противоположную, казалось бы, Танкреду, сыгранную им в том же 1809 году. Роль в новой трагедии Озерова "Поликсена" - "царя царей" Агамемнона: нерешительного, не сумевшего противостоять злу, но непрестанно размышляющего о бессмысленности жертв войны, о мудрой терпимости к недостаткам людей, которая постигается с возрастом, о том, что "злополучие - училище царей".
Интенсивным оказался для Яковлева и следующий - 1810 год. Начался он выступлением в прозаической переделке А. Шеллера шиллеровской "Марии Стюарт". Трагедия Шиллера была обескровлена, втиснута в рамки классицистских правил, приправлена чувствительными рассуждениями героев. Не отличалась "Мария Стюарт-королева Шотландская" (так назвал пьесу А. Шеллер) и совершенством языка - архаично-сентиментального, насыщенного неестественной патетикой. И все-таки в отдельных ситуациях, в ряде реплик теплилась вольнолюбивая мысль Шиллера. Она прорывалась и в контурно намеченном образе герцога Норфолька, генерал-адмирала английского флота, которого играл Яковлев. Скроенная из двух сложных шиллеровских ролей - графа Лейстера и отважного Мортимера, роль Норфолька давала возможность актеру выявить столь характерное для него бунтарское начало. Сражаясь за возлюбленную, за королеву, неистово восставал его Норфольк против тех, кто сажает в темницы славных защитников отечества.
Гражданский пафос образа Норфолька привлекал Яковлева. Гражданский пафос определял и другую роль, впервые сыгранную им в том же году.
"Октября 24 числа представлена была в русском переводе Расинова трагедия "Athalie", названная у нас "Гофолией". Г[осподин] Яковлев (в роли Иодая) превзошел прекрасной своей игрой ожидание зрителей..." - отмечал в 1810 году журнал "Цветник".
Что-то сурово библейское, монументально-пророческое было в его первосвященнике Иодае, обличающем злодеяния царицы Гофолии, которая узурпировала престол. В этой роли Яковлев был "дивно-прекрасен", уверяли мемуаристы.
"Тиранство", "узурпация трона". Слова эти имели двойной смысл. Не раз уже произносили их на русской сцене, оглядываясь на кровавую историю царствования рода Романовых. Эти же слова в условиях начавшейся холодной войны с Францией, которую уже подспудно вел со своим названым братом представитель той же династии Александр I, разжигали совсем иные - патриотические - чувства, намекая на захват трона в стане противников бывшим сторонником республики императором Наполеоном.
После "Гофолии" Яковлеву довелось сыграть в новом русском "Гамлете", который был показан зрителям на бенефисе Яковлева 28 ноября 1810 года.
Чем могла привлечь к себе Яковлева ремесленная, обесцветившая оригинал переработка С. И. Висковатовым самой загадочной и самой вечной трагедии "неподражаемого англичанина"? По всей видимости, громкой славой английского первоисточника. Образом печального короля Гамлета (в трагедии Висковатова шекспировский принц Гамлет превращен в царствующего короля), его размышлениями о бренной власти царей, о необходимости быть верным воле народа, о жизни, о смерти. И о том, что держит на неправедной земле людей.
Смерть прекращает все желанья и мученья. Но если смерть есть сон? Когда скопленье мук и в гробе нам грозит?.. О неизвестность! Ты, коль не страшила б нас, Ах, кто б не предварил страдный смерти час? Кто б ползал по земле, злодейством населенной, Где в злате скрыт порок; где правды глас священной Столь редко слышится властителям земным;? Где добрым - бедствие, дается счастье злым; Где лавры кровию невинных обагренны; Где хищники в лучах на троны возвышенны; Где лесть, как смрадный пар, гнездится вкруг венца; Где алчная корысть объемлет все сердца; Где зависть, ненависть, убийство обитает...
Даже в такой, приблизительной, форме впитавший в себя мучительную мысль тысячелетий шекспировский монолог "Быть или не быть?" не мог не возбуждать умы современников Яковлева. И заставлял его самого глубже задумываться над проблемами бытия.
Именно к этому-1810-му - году относятся дошедшие до нас его стихотворные строки, которые позволяют говорить, что он стремится покончить счеты с жизнью, где "неправда обитает лишь".
Все чаще и чаще приходят к нему мысли о самоубийстве.
Се врата пред мною к вечности! Я готов в путь, неизвестный мне!
Разочарование и в славе сопутствует ему. Одиночество сопровождает его и в загулах. И в окружении людей он живет сам по себе, постоянно погруженный в поиски ответов на вопросы, которые мучают на сцене воплощаемого им Гамлета. А жизнь все больше и больше дает ему поводов для невеселых раздумий.
Вскоре случилось событие, всполошившее весь Петербург.
В ночь с 31 декабря на первое января 1811 года загорелось дивное создание зодчего Тома де Томона - Большой театр в Коломне. Гениальный архитектор в 1802 году за восемь месяцев сумел не только переделать, но, по существу, создать новое здание театра на Театральной площади, которое могло соперничать с лучшими европейскими театрами.
Что же представляло оно собой?
Тома де Томон сам дает на это ответ: "Фасад представляет собой портик ионического ордера из восьми колонн, увенчанных фронтоном. Фронтон украшен барельефом, изображающим Аполлона, окруженного хором муз. Первый этаж состоит из круглого в плане вестибюля, в который ведут три главных входа. Направо и налево две лестницы с двойным маршем ведут на второй этаж... Украшения внутренние сделаны в стиле греческих театров... Первый ряд лож образует круглый амфитеатр, над которым возвышаются два других ряда по тридцать две ложи, отделенные по две колоннами коринфского ордера. Передняя часть каждой ложи украшена барельефами - гризайль на золотом фоне. Эта внутренняя колоннада увенчана последним ярусом лож в форме аркад, поддерживаемых Гениями и Славами, которые отделяют раёк от лож. Эти фигуры цвета бронзы прекрасно гармонируют с плафоном, на котором мы видим девять муз под сводами, украшенными арабесками. Плафон образует как бы большой зонтик, разделенный на два отдела, - по краям расположены знаки Зодиака, а середина изображает ночь..."
В каждом ярусе тридцать две ложи, внизу - три ряда кресел, одиннадцать рядов амфитеатрально расположенных за ними сидячих партерных мест, а дальше - более дешевые стоячие места. Слева от сцены - царская ложа, направо - директорская. По разным сторонам от кулис уборные для актеров, репетиционный зал и библиотека.
Кресла, стулья, барьеры лож, торжественный занавес - из малинового бархата. Теплый колеблющийся свет свечей канделябров, приделанных к стенкам лож, и позолоченной люстры, спускающейся с центра плафона. Все это придавало волшебную праздничность зрительному залу.
Внутренний, как и внешний, вид театра напоминал храм. Парадные со скульптурами и живописью фойе, посвященные Аполлону, Талии и Мельпомене, были похожи на своеобразные священные "притворы". Крытая светлая галерея, ведущая в зрительный зал, имела выход и в другое, меньшее помещение, предназначенное для балов и маскарадов. Построенным Тома де Томоном театром восхищались многие его современники.
И вот теперь театр был охвачен пожаром.
Как сообщала "Северная почта", "крыльца и двери... объяты были дымом, и наконец все здание сделалось подобно аду, изрыгающему отовсюду пламя...". Пожарным удалось спасти лишь кое-какие декорации, часть хранившихся в конторе бумаг, небольшое количество костюмов да вырученные от спектаклей деньги, которых, по донесению дирекции, "было, однако ж, не более 4000 рублей".
А вот как описал это событие Вигель: "Зарево... до утра освещало весь испуганный Петербург. Люди, которые ждут беды, во всем готовы видеть худое предзнаменование. Один только главный директор театра Нарышкин не терял веселости и присутствия духа; он сказал прибывшему на пожар встревоженному царю: "Ничего нет более: ни лож, ни райка, ни сцены, все один партер!"
Большой театр превратился в руины. А потом... Потом, всего через несколько дней - 9 января 1811 года, - поэт Гнедич написал поэту Батюшкову письмо, в котором сообщал: "...наш театр - Большой, Каменный вспыхнул на воздух - et площадь ubi театр fuit (Игра слов, приблизительный смысл которой: "площадь на месте, театр исчез".). А несчастный Тома архитектор, чертом побуженный взлесть на полугорелые стены созерцать руины и размышлять о тленности мира сего и о том, можно ли что-нибудь из развалин создать, и, погрузясь в сладкую меланхолию, рухнулся со стеною и от высот до основания и катяся по ней и под ней и меж ней - немного измял себе голову и руки, и ребра, и ноги..."
Превратившись в калеку, великий зодчий прожил с муками еще около двух лет. И умер, не успев восстановить свой театр. Сделал это через семь лет французский архитектор Модюи, уже тогда, когда ни Тома де Томона, ни Яковлева не было в живых. Пока же все труппы петербургской сцены стали ютиться в значительно менее удобных зданиях: в Малом театре у Аничкова дворца и Новом (Кушелевском) театре, который находился напротив Зимнего дворца. (О них будет рассказано в следующей главе.)
* * *
Во вспыхнувшем под Новый год пожаре суеверные люди увидели дурную примету. Не менее зловещей казалась и комета, блуждавшая по небу в том же 1811 году. Тревожная атмосфера в Петербурге все сгущалась. Ползли и ползли слухи о неизбежности новой войны с Францией.
Газеты продолжали освещать события, происходившие в жизни императора Наполеона. Французский и русский монархи еще писали письма, называя друг друга "государь, брат мой", заверяя в неизменной верности "вечному миру". А в Петербурге уже повторяли фразу Александра I о вероятности и даже близости войны. А в Париже Наполеон I готовился к "великому походу", тщательнейшим образом изучая историю "несчастного" шведского короля Карла XII и пытаясь извлечь для себя уроки из битвы его с русскими при Полтаве. И умный дипломат министр Фуше предупреждал, слыша его речи о создании всемирной монархии путем завоевания России: "Государь, я вас умоляю, во имя Франции, во имя вашей славы, во имя вашей и нашей безопасности, вложите меч в ножны, вспомните о Карле XII".
Оба императора не доверяли друг другу. В обеих странах шли военные приготовления. Наполеон изучал историю битвы Карла XII при Полтаве, а на сцене петербургского театра в это же время была поставлена "историческая драма", переведенная с немецкого языка Шеллером, "Карл XII при Бендерах", заглавную роль в которой играл Яковлев. В сюжете пьесы и в образе главного героя, шведского короля Карла XII, зрители закономерно видели намек на французского императора и его отношения с Александром I.
"Карл XII, потрясший все государства на севере, - объяснял "Вестник Европы", говоря о постановке этой драмы, - с многочисленным и победоносным войском своим протекший Польшу и Саксонию... переходит Неман, приближается к Днепру и в упоении гордости обещается в Москве говорить с царем российским". Но "поговорить" ему "в Москве с царем российским" не пришлось.
Пьеса содержала не только намек, но и предостережение "дерзновенным угрозам честолюбивцев", над одним из которых - Карлом XII "посмеялся великий Петр".
Поэтому так аллюзионна была в то время роль, предназначенная Первому трагическому актеру. Яковлев, по утверждению рецензентов, всегда имел в ней успех, "удачно изображая" характер шведского короля: "его безрассудное мужество, упрямство и беспечность посреди величайших опасностей", его "пылкость, решительность, непреклонность"; "выразительный взгляд его и движение правой руки, которою он часто поднимал волосы вверх на голове, вся эта характеристика Карла производила большое впечатление"...
12 (24-го по новому стилю) июня 1812 года император Наполеон I с "великой армией", не знавшей до сих пор поражений, скомплектованной из лучших воинов подвластных ему стран Европы, вторгся на территорию нашей страны, провозгласив в своем манифесте: "Рок влечет за собой Россию; ее судьбы должны свершиться". Через два дня император Александр I обратился к русскому народу: "Воины! Вы защищаете веру, отечество и свободу!" И всё в России перевернулось. Слова "отечество" и "свобода" сомкнулись. Слово "тиран" соединилось со словом "иноземный".
Сразу же после начала военных действий многое изменилось и на петербургской сцене. В новом, злободневном звучании вернулись на сцену "Димитрий Донской" и "Пожарский", последнее время на сцене не шедшие. Каждая реплика в защиту родины воспринималась как призыв к борьбе против "антихриста Боунапартия". Таким репликам рукоплескали до неистовства. При монологах, произносимых полководцами - героями Яковлева, рыдали до исступления.
Дух гражданственности возрастал в ходе войны. Это давало себя знать на сцене в том воодушевленном соединении актеров и зрительного зала, какого не знало мирное время. С огромным чувством, со слезами на глазах пели актеры "Славу" бесстрашным защитникам - "храброму графу Витгенштейну, поразившему силы вражеские", или "храброму генералу Тормасову, поборовшему супостата нашего...".
Играя национальных героев, слышал Яковлев бурю аплодисментов и единодушные крики: "Фора!", "Браво!", "Слава России!" Со всей страстью, свойственной эмоциональной натуре, переживал он перипетии войны. В конце 1812 года, когда старый, мудрый, осторожный Кутузов написал наконец дочери: "Я бы мог гордиться тем, что я первый генерал, перед которым надменный Наполеон бежит", Алексей Семенович уже успел издать на свой счет написанную им "Песнь на победы, одержанные русскими воинами над галлами".
С широким радушием встретил он прибывших из захваченной французами Москвы актеров. И в их числе отца Павла Мочалова - Степана Федоровича, с которым особенно сблизился. Тот поселился в том же доме Лефебра где-то на Офицерской улице (ныне ул. Декабристов) , где в это время жил Яковлев.
* * *
Имя Яковлева гремело. Приказом ему был назначен оклад в 4000 рублей, не считая 500 рублей квартирных и расходов на бенефис, которые оплачивала дирекция. На полторы тысячи рублей жалованье его превысило оплату бывших премьеров труппы (в том числе и Плавильщикова, и Шушерина).
1812 год был пиком его славы. Происходило то редкостное слияние артиста и зрителей в едином порыве любви и ненависти, которое бывает во время отечественных войн и решающих судьбы народов побед.
Но время не стояло на месте. С переломного момента хода войны, когда наполеоновские полчища покинули Россию, а русские войска оказались на территории Европы, наступило, по определению историков, уже другое - преддекабристское время.
1812 год подвел печальный итог "прекрасных дней прекрасного начала" царствования Александра I. Аракчеевщина со всей силой вторглась в жизнь русских людей. Казарменный дух проникал всюду, и прежде всего в придворные департаменты. Даже театр, который никогда не жаловал временщик, начал подчиняться ему.
В театре чувствовалось отсутствие Шаховского. 15 июня 1813 года был издан указ: "Так как Шаховской находится в ополчении... то Майкову передается управление как делами конторы, так и хозяйственной и репертуарной частью..." Никогда не ладивший с "лихим командиром" - Майковым (который был некоторое время директором московского театра, а в 1812 году снова прибыл в Петербург), Яковлев с особой неприязнью ощутил его начальническую власть.
Все труднее становилось, отбирая для бенефиса пьесы, выносить придирки цензуры, которая, по словам даже благонамереннейшего Фаддея Булгарипа, в это время оказалась "строже папской". Все невыносимее действовали внутритеатральные распри между расточительным директором театра Нарышкиным и старающимся выслужиться перед императором вице-директором Тюфякиным.
Особенно тяжким для Яковлева оказалась потеря как основной партнерши Александры Дмитриевны Каратыгиной, переведенной начальством в тридцать четыре года на амплуа "благородных матерей", дабы дать роли более молодым актрисам, с которыми, особенно с Екатериной Семеновой, он редко находил и в жизни и на сцене общий язык.
В театре Яковлева окружали зависть, лицемерие, подобострастие, порою приправленные скрытой издевкой. Большинство актеров, как видно из воспоминаний А. Е. Асенковой (матери воспетой поэтами Варвары Асенковой), робело перед ним, чувствуя разницу в своем и его таланте, видя его начитанность, умение отстаивать достоинство художника. Претендующие на равное с ним положение нередко, как то бывало с Шушериным, завидовали. Молодые с напряженным благоговением ожидали его мнения о себе. "Одобрение Яковлева значило все", - признавалась А. Е. Асенкова.
С годами все более скептично начал он относиться к восторгам и шиканью публики.
Публика... "Что такое наша публика? - воскликнет через несколько лет Пушкин. - Пред началом оперы, трагедии, балета молодой человек гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, разговаривает со всеми знакомыми и незнакомыми. "Откуда ты?" - "От Семеновой, от Сосницкой, от Колосовой, от Истоминой!"- "Как ты счастлив!" - "Сегодня она поет - она играет, она танцует - похлопаем ей - вызовем ее! она так мила! у ней такие глаза! такая ножка! такой талант!.." Можно ли полагаться на мнения таких судей?"
Нельзя полагаться, по мнению Пушкина, и на других зрителей. На тех, кто "в заоблачных высях" душного райка готов прийти в исступление от "громкого рева" трагических актеров. И на тех, кто, явясь из казарм и совета, сидит в первых двух рядах абонированных кресел. "Сии великие люди нашего времени, носящие на лице своем однообразную печать скуки, спеси, забот и глупости, неразлучных с образом их занятий, сии всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях, зевающие в трагедиях, дремлющие в операх, внимательные, может быть, в одних только балетах, не должны ль, - вопрошает Пушкин, - необходимо охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить лень и томность на их души, если природа одарила их душою?"
Природа одарила Яковлева щедрой и пылкой душою. Его игру почти за два десятка лет пребывания на сцене не раз охлаждала "однообразная печать скуки, спеси, забот и глупости" на лицах сидевших у самой сцены сановных зрителей.
Правда, был еще высоко ценимый им партер... Именно оттуда, с рублевых сидячих и стоячих мест, больше всего аплодировали "несравненному Яковлеву". Но за эти рукоплескания, за восторженные крики оттуда и попадало ему больше всего от рафинированных театралов. Его считали актером плебеев, чуждым, по словам Вигеля, "двору, лучшему обществу", тем людям, которые видели "лучшие образцы". Яковлев играл, с презрением уверял Вигель, перед многочисленной толпой, в которой "самая малая часть принадлежала к среднему состоянию; остальное было ближе простонародью, даже к черни...". "Как, желая нравиться такой публике, не исказить свой талант?" - восклицал он. И не без циничности признавался, что самому-то ему случалось быть в немецком и русском театре очень редко, что страсть к французской сцене доходила в нем "до безумия", что там была "вся услада", все "утешение" его жизни.
"Как легко и как несправедливо бывает, - с горечью возражал Яковлев в ответ на подобные упреки, - суждение о человеке издали, без сведения об образе его мыслей, о его чувствованиях и склонностях. Как легко сказать: "Играет с некоторым небрежением", "не очень хорошо представлял" и пр. Как легко можно тем обидеть; но как трудно доказать сие без совершенного знания театрального искусства..."
"Непонятым и опередившим свой век актером", которому хлопал "площадный партер", с иронией назвал Яковлева отрицавший новые веяния русского театра в середине XIX века Вигель. В исполненных яда словах была своя правда. Яковлев многими, даже рукоплескавшими ему, был не понят и действительно опередил свой век.
Осенью 1813 года творческая жизнь театра оказалась приторможенной. Репертуар, за исключением ультрапатриотических поделок, почти не обновлялся. В 1813 году Яковлев сыграл один раз в "Марии Стюарт", два раза в "Отелло", много раз в пьесах Коцебу, получивших второе рождение, и в других, прежде игранных, изживающих себя драмах. И конечно, в поднадоевших ему "Пожарском", "Димитрии Донском" и снова в "Пожарском" (его повторяли особенно часто)...
В октябре он исполнил роль Антиоха в трагедии "Маккавеи", взятой П. А. Корсаковым, как извещали афиши, "из священного писания" и показанной на бенефисе Каратыгиной. Потом две недели вообще не выступал. В трагедиях "Смерть Роллы", "Дебора" и в драме "Лиза, или Следствие гордости и обольщения" главные роли сыграл вместо него С. Ф. Мочалов.
Приступы черной меланхолии охватывали Яковлева все чаще и чаще. То мрачно сидел он, уткнувшись в книги, ища в них ответа на тревожные вопросы времени, то бросался в разгул, приказывая кучерам вовсю гнать лошадей в излюбленный им загородный "Красный кабачок", сказываясь в театре больным.
А затем случилось непоправимое...
"24 октября был смутный день для русского театра, - зафиксировал в своей "Летописи" Пимен Арапов. - Во время представления в Малом театре "Недоросля" Фонвизина среди зрителей мгновенно разнеслась весть, что только что перерезал себе горло лучший актер российской сцены Алексей Семенович Яковлев".
"Эта грустная катастрофа, - вспоминал Петр Андреевич Каратыгин, - в тот же день сделалась известна всему Петербургу".
Причины объясняли по-разному. Чаще всего очень романтично, связывая их с именем Каратыгиной. Свидетельства этому имеются во многих мемуарах:
"Бредил одной ею и... в припадке отчаянья решился положить конец своим страданиям самоубийством".
"Разгульная жизнь была единственным противоядием любви... Припадки меланхолии были ужасным следствием этого образа жизни. К счастью, бритвенный порез был не очень глубок..."
"Делая добро, утешая других, Яковлев всех более имел нужду в помощи и утешении, несчастная страсть терзала его сердце..."
Но была и еще одна, может быть самая серьезная, причина, которая привела актера к катастрофе. О причине той свидетельствует письмо Аракчееву генерал- майора Степана Творогова, с пометкой на конверте: "собственноручно".
Легким, светским тоном уведомлял Творогов своего грозного адресата о следующем: "Театр всякий день, и множество новых пьес, содержащих в себе события нынешних великих дел, представление героев и героических подвигов". Подготовив таким образом всесильного подручного императора к тому, что под вновь введенной охраной унтеров в храме Мельпомены обстоит все благополучно, Творогов, между прочим, замечал: "Славный наш актер Яковлев, по строгости в дисциплине службы Александра Львовича, посажен под караул для вытрезвления, но он, быв в амбиции великой, не мог переносить сего унижения, чуть не зарезался было, ускорили не допустить, но со всем тем поранил шею себе и теперь болен. Вот наши городские новости..."
Действительно ли для "вытрезвления" или по иной причине был посажен под унизительный арест Яковлев, определить, не имея в руках других доказательств, кроме письма раболепствующего перед временщиком Творогова, невозможно. Под арестом Яковлеву в молодые годы приходилось бывать не раз: за "дерзость" начальству, за отказ от роли. Что же касается "великой амбиции" актера Яковлева, то ничьих амбиций, кроме императора и своей собственной, Аракчеев, как известно, не признавал. Никакого хода делу о попытке самоубийства Яковлева дано не было. Даже ежедневные записи журнала театральной дирекции, где фиксировались все наказания актеров, об аресте Яковлева не поминали. В деле "О больных" свидетельств врача не оказалось. Таким образом, всколыхнувшая весь Петербург попытка самоубийства Первого трагического актера русской труппы никакого отражения в делах театральной дирекции не нашла.
В письме Творогова не упоминается, где содержался посаженный под арест Яковлев - у себя ли дома под присмотром унтеров или на Съезжей в полицейском участке. Если же довелось ему побывать в полицейском участке (упомянутый раньше Голубев утверждал, что именно так оно и было), то там ни со славой, ни с положением актеров не считались.
Мы не располагаем данными, каков был режим арестованных актеров в Петербурге. Но до нас дошел документ, красноречиво живописующий, в каких условиях находились под арестом московские "придворные актеры" в те же самые 10-е годы. За отказ от роли Видостана в пресловутой "Русалке" (которую, напомним, считал для себя оскорбительным играть Яковлев) приказано было посадить известного всей Москве актера Якова Соколова в "солдатскую кутузку". Театральное начальство дало команду "тащить его в караульню".
"Солдаты же, - рассказывал Соколов, - долго на сие не решались, как вдруг выбежавший из комнаты начальников чиновник... закричал повелительным голосом: "Берите, тащите его!" - и, ударив меня в грудь, предал в руки солдат, которые, взяв меня за ворот, толкали до самой караульни, препровождая сие действие непристойною бранью. Пораженный сим жестоким поступком, равно как и толчками, пришел я в беспамятство и по некотором времени, опомнясь, увидел, что нахожусь я посреди солдат... За множеством народу и теснотою места ни присесть, ни даже стоять было невозможно..."
Три дня пробыл в кутузке исполнявший первые оперные роли на московской сцене Соколов. Когда вышел из нее, сразу же направил жалобу "добрейшему", по словам Булгарина, Нарышкину.
Вскоре в московскую театральную контору поступил ответ. Нарышкин полностью одобрял ее действия. Арест "бесчестия не приносит", - утверждал он, - им "наказываются иногда лица звания гораздо высшего против актерского...".
Ответ Нарышкина был санкционирован указаниями значительно более высокопоставленного лица в Российской империи. Доказательством этому служит письмо Александра I Аракчееву, написанное через пять лет после описываемых событий по поводу совершенно незначительного поступка одного из актеров петербургской труппы.
"Аахен, октября, 24-го 1818. По сему объяви военному генерал-губернатору и министру юстиции, да строго быть надсматриваемо, и даже прочих, и при первой дерзости арестовать виновного и, посадя в смирительный дом, уже не иначе из оного выпустить, как с выключением из труппы и отсылкою на житье в Вятскую, Пермскую или Архангельскую губернию в пример другим, весьма мало заботясь, что устройство труппы от того потерпит. Я предпочитаю иметь дурной спектакль, нежели хороший, но составленный из наглецов. В России они терпимы быть не должны..."
Таково было мнение самого императора. Стоит ли удивляться при этих обстоятельствах, что рука самолюбивого, всегда с горячностью, со страстью отстаивавшего чувство актерского достоинства Яковлева потянулась при аресте к бритве?..
* * *
"Вовремя поданная ему помощь спасла его от явной смерти; рану немедленно зашили, и приняты были самые старательные меры для его излечения... Все классы общества были проникнуты горячим участием и соболезнованиями к своему любимому артисту; старшие воспитанники Театрального училища днем и ночью по очереди дежурили у него в продолжение шести недель, - вспоминал Петр Андреевич Каратыгин. - И я помню по рассказам моего отца, что когда по выздоровлении Яковлев вышел первый раз на сцену... то восторг публики дошел до исступления, театр дрожал от рукоплесканий, и в продолжение нескольких минут ему невозможно было начать своей роли".
"2 декабря представляли "Дидону", - подтверждал его слова Пимен Арапов в своей "Летописи", говоря о 1813 годе. - Яковлев, в первый раз после болезни, явился в роли Ярба; восторг зрителей был неизъяснимый: долгое время раздавались восклицания "браво" и даже восторженное "ура!"".
"Наконец крики и рукоплескания смолкли, - продолжал свой рассказ Петр Каратыгин.- Все с напряженным нетерпением ждали услышать снова знакомые звуки своего любимца. Он силился произнести первый стих... и не мог. Растроганный до глубины души артист, может быть, в эту торжественную минуту вполне сознавал свою вину. Голос его оборвался, крупные слезы покатились по его щекам, и он безмолвно опустил голову. Снова раздались рукоплескания и крики. И наконец, кое-как собравшись с силами, он начал. В этот вечер, по словам современников, он превзошел себя, а восторг публики был беспределен".
Дидону тогда играла московская актриса Борисова. Москвичи прочно вошли в репертуар петербургской сцены. Во время болезни Яковлева почти все его роли играл Степан Федорович Мочалов, который, по словам очевидцев, в Петербурге "под влиянием Яковлева" значительно усовершенствовал свое мастерство.
Яковлеву трудно было исполнять прежний репертуар. Оперированное горло лишило "дивный голос" прежней звучности. Пережитая трагедия наложила неизгладимый след на актера. И в жизни, и на сцене происходила у него переоценка ценностей. Все начало восприниматься глубже, но и безнадежнее.
Сразу же после его выздоровления тяжело заболела Александра Дмитриевна Каратыгина. Врачи подозревали, что у нее чахотка. Более полугода не появлялась она на сцене. "Это было самое грустное время в моем детстве", - вспоминал потом Петр Каратыгин. Со страхом ожидал он вскрытия Невы, предвещавшего начало весны, столь опасное для больных чахоткой...
Каратыгины жили в доме Латышевой на Торговой улице, совсем близко от дома Лефебра на Офицерской, где продолжал снимать квартиру Яковлев. Но он, по-видимому, не мог бывать у нее. Во всяком случае, Петр Андреевич не поминает его ни разу в числе тех, кто навещал Александру Дмитриевну ни тогда, когда болела она в Петербурге, ни тогда, когда для поправления ее здоровья летом 1814 года семья Каратыгиных переехала в крестьянский домик, стоявший на берегу Черной речки, продав или заложив в ломбард все, что только у них было ценного. И не терпящий внешнего проявления нежности отец его пешком по девять верст шагал каждый день в театр и обратно на дачу, ни разу не пожаловавшись на усталость...
Яковлев как бы начинал жизнь сызнова. Года на два или на три "он, говорят, отстал от своей несчастной слабости, - утверждал Петр Каратыгин со слов своего отца, имея в виду горькие загулы Яковлева, - и усердно занялся своим искусством".
На пожалованный ему бенефис он выбрал стихотворную трагедию "Спартак, герой германский", определенную ее переводчиками Висковатовым и Корсаковым как "подражание пьесе французского драматурга Сорена". Трагедия имела откровенно злободневное звучание. В битве под Лейпцигом армия Наполеона потерпела окончательное поражение.
Битва под Лейпцигом завершилась 6 октября 1813 года. Спектакль в пользу актера Яковлева прошел через три с небольшим месяца - 16 января 1814 года. Тогда война была перенесена уже на территорию Франции. Но тема борьбы "германцев" против завоевателей была еще свежа. Древнеримский раб, варвар Спартак был превращен в пьесе Висковатова и Корсакова в героя германского, готового "римское (читай - наполеоновское! - К. К.) владычество попрать и миру целому свободу даровать".
Трагедия, поставленная в бенефис Яковлева, захватывала не только патриотическим звучанием. 1814 год был рубежом, когда сплавленные воедино огненным 12-м годом слова "отечество" и "свобода" снова начинали отделяться, чтобы соединиться в новом, внутреннем антимонархическом значении в воззрениях будущих декабристов. Вопреки воле вполне благонамеренных авторов пьесы, которая носила явно эпигонский характер, не могла не прозвучать в спектакле наряду с темой Спартака - германского героя и тема Спартака - древнеримского раба.
Такую любопытную, дающую возможность двойной трактовки пьесу выбрал для своего первого после выздоровления бенефиса Яковлев. Как он в ней играл? Об этом имеется лишь одно свидетельство Арапова: "Роль Спартака занимал Яковлев и встречен был опять с большим сочувствием..."
По тем или иным причинам, но "Спартак" на петербургской сцене не задержался. Яковлев сыграл его всего три раза. До самой смерти актера трагедия эта в Петербурге больше не показывалась.
В конце 1813 года за кулисами театра произошли кое-какие изменения. В декабре отправился обратно в Москву для управления тамошним театром Майков. Перед самым началом нового года уехал наконец за границу Нарышкин, оставив Тюфякину свои "наставления".
Но Тюфякин не очень-то нуждался в наставлениях Нарышкина. И во всем действовал по своему разумению.
1814 год был годом торжественного въезда на белой лошади в Париж "русского Агамемнона", "царя всех царей" шестой союзной коалиции - Александра I в сопровождении европейских монархов, провозгласившего, что восстановление во Франции династии Бурбонов - "это принцип".
А в подчиненном ему, "властителю слабому и лукавому", государстве вдохнувшие вольного европейского воздуха герои 1812 года быстро и резко начали разделяться, по меткому определению историков, на "Пестелей" и "Милорадовичей". С особым воодушевлением начал восприниматься партером монолог Иодая - Яковлева, провозглашенного Рафаилом Зотовым "венком славы великого артиста", во вновь поставленной "Гофолии" Расина:
Познайте, помните, цари, всегда о том, Что есть вам судия, незрящ на лица сильных...
Акценты ролей менялись. Как и взгляды молодого поколения передовых людей России. В свете этого особое значение приобретает первая постановка в России на бенефисе Яковлева 5 октября 1814 года "Разбойников" Шиллера.
Семнадцать лет была уже известна русскому читателю ранняя трагедия Шиллера в незаурядном для своего времени переводе Николая Николаевича Сандунова. Два поколения успели впитать в себя ее мятежные идеи, восклицая, подобно вольномыслящему Андрею Тургеневу: "Ну, брат, прочел я "Разбойников". Что за пьеса!.. Кусок в горло не шел, и волосы становились дыбом". А театральные чиновники и ретроградные критики не менее рьяно продолжали предавать ее анафеме, безапелляционно утверждая: "Она писана для немцев; на русском театре представлять ее никак не можно".
Немногочисленные петербургские и московские зрители, владевшие иностранными языками, успели познакомиться с шиллеровским подлинником в исполнении немецких - петербургской и московской - трупп императорского театра. Приглаженная французская обработка трагедии Шиллера - "Робер, атаман разбойников", переведенная для московского театра, уже получила свою долю признания. А принесший известность Николаю Сандунову перевод подлинных "Разбойников", давно оцененный как "капитальный", на сцену до бенефиса Яковлева допущен не был.
Каким образом удалось бенефицианту миновать цензурные капканы, представив так не соответствующую, казалось бы, славословно-победному историческому моменту трагедию на обозрение многочисленных зрителей? По-видимому, притупилась на какой-то миг бдительность цензуры. Помог также и авторитет бенефицианта.
"Разбойники", поставленные в пользу Яковлева, увидели свет в переполненном Малом театре у Аничкова дворца. "Роль Карла, - гласит "Летопись" Арапова, - исполнял Яковлев и был замечательно эффектен..."
То была вершина сценических созданий Яковлева. В главном герое "Разбойников", довольно бережно, хотя и с сокращениями, и с измененным концом, переведенных Н. Н. Сандуновым, было все, что нужно для такого актера, каким был он.
В его Карле Мооре, рожденном с любящим, открытым для добра сердцем и прошедшем искушения молодости, боролись несовместимые, казалось бы, чувства - приверженность высшей человеческой справедливости и необходимость утверждать эту справедливость неприемлемыми для истинной человечности поступками. Он нарушал божеские законы, стремясь внедрить их в безбожном мире. Бросал вызов этому миру - и погибал в нем. Будучи значительнее других людей, становился их жертвою. Пытался осмыслить терзавшие его собственные противоречия - и не мог найти им оправдания, опутанный противоречиями окружавшей жизни. Провозгласив: "Свобода и вольность", он приходил к девизу: "Смерть или свобода". Больше жизни любил он Амалию - и поражал ее кинжалом, будучи не в силах противостоять законам "разбойничьей" чести. "Я сам мое небо и мой ад!" - восклицал он. И становился собственным палачом, борясь за честь и справедливость.
За всей этой противоречивой сущностью человека, поставившего себя вне закона, отвечающего насилием на насилие, вставал одинокий бунтарь, восставший против мира господня, где "язва, голод и порок пожирают праведных вместе с неправедными". И если в центре спектакля, воплощенного московской немецкой труппой, был монолог Карла, начинавшийся словами: "Meine Unschuld, meine Unschuld!" - "Моя невинность, моя невинность!", то в русском спектакле вызывала рыдания зрителей тирада Карла: "Человеки! человеки! порождение крокодилово! Ваши глаза омочены слезами, а сердца железные! Поцелуй на губы, а кинжал в грудь".
Бенефис Яковлева имел такой оглушающий резонанс, что русским "Разбойникам" путь на сцену снова был решительно прегражден. Через два дня после представления "Разбойников" перепуганный Тюфякин издал приказ: "В прошедший понедельник 5 октября в бенефис актера Яковлева замечено мною, что в партере и амфитеатре было столь великое число людей, что оные уже никак поместиться не могли; предписываю впредь конторе дирекции не выдавать в бенефисы никогда более в партер 400, а в амфитеатр 140 билетов. И строгое иметь за сим смотрение приставленных всегда к сему капельдинеров".
В то же время - время усиливающейся аракчеевщины - молодежь бредила "Разбойниками", в университетах и училищах составлялись братства "освободителей человечества", которые клялись преследовать злодейство и несправедливость. В среде молодых театралов цитировались пророческие слова молодого Фридриха Шиллера: "Когда справедливость слепнет, подкупленная золотом, и молчит на службе у порока, когда злодеяния сильных мира сего издеваются над ее бессилием и страх связывает десницу властей, театр берет в свои руки меч и весы и привлекает порок к страшному суду".
Но страх связывал не только "десницу властей", а и десницу подвластного им театра. Карл Моор с его мятежными речами был изгнан со сцены. Свою главную роль Яковлеву долго играть не пришлось. Она была высшей и поворотной точкой сценического восхождения Яковлева.
После изгнания "Разбойников" началось повторение пройденного. И быстрое скольжение вниз.
* * *
По приходе в театр Шаховского (поселившегося, кстати, в том же, что и Яковлев, доме Лефебра на Офицерской) увеличилось количество постановок классицистских трагедий.
Для классицистских ролей требовался в первую очередь голос. Вдохновение посещало Яковлева все реже. После неудавшегося самоубийства он пытался возместить утраченное приобретенным годами мастерством. Но мастерство без обычного для него воодушевления было мертво. И его охватило тоскливое безразличие.
Большинство ролей Первых любовников Яковлев отдал молодому, недавно принятому в театр актеру Я. Г. Брянскому. Да и во многих ролях героев и царей Брянский его тоже заменил.
Из всех вновь сыгранных в 1815 году ролей была для Яковлева более или менее интересна одна: роль величественного и грозного греческого царя Агамемнона, вынужденного по приказу богов во имя победы соотечественников отдать свою дочь в жертву, в трагедии Расина "Ифигения в Авлиде", переведенной М. Е. Лобановым. И хотя, по отзывам современников, исполнение его "было превосходно", Семенова, которая играла теперь все главные женские роли (о ней речь - впереди), исполнив, по многочисленным свидетельствам, роль протестующей против воли богов жены Агамемнона Клитемнестры так, что "театр стонал от рукоплесканий и криков", совершенно затмила Яковлева.
Она теперь затмевала его во всем.
О нем же начали говорить как о знаменитом прошлом. С 1 марта 1815 года с Яковом Григорьевичем Брянским был заключен контракт, по которому ему официально вменялось "играть... в трагедиях, комедиях и драмах первые роли молодых любовников и прочие, принадлежащие к сим амплуа". Все больше ролей отдавал ему Яковлев. Все реже играл сам.
Исполнив с Каратыгиной "в вознаграждение окончившейся двадцатилетней усердной службы" 1 июля роль Отелло, а затем на обычном своем бенефисе, состоявшемся 1 сентября 1815 года, когда-то сыгранную им при первых дебютах роль сумароковского Синава, еще через восемь дней Яковлев подал прошение об увольнении его со сцены "по случаю слабого здоровья" и выдаче заслуженного им пенсиона.
* * *
Круг одиночества сузился для него до предела. И тогда он решился на то, в чем первому признался другу юности Григорию Ивановичу Жебелеву: "Я женюсь, схвачусь, как утопающий, ища спасения, за бритву... Но пробуждение мое будет ужасно!"
Минута и здесь решила у него все. Вот что рассказывал по этому поводу внук Александры Дмитриевны Каратыгиной Петр Петрович: "Как-то летом 1815 года, проходя мимо окон квартиры отставного камер-музыканта Ивана Федоровича Ширяева, он (Яковлев. - К. К.) увидел его хорошенькую семнадцатилетнюю дочь Катерину и завернул к старику. Обрадованный Ширяев не знал, как принять дорогого гостя, который сам попросил подать ему стакан вина, но не иначе как из рук молоденькой хозяйки и не иначе с ее поцелуем "на закуску". Желание Яковлева было исполнено; осушив стакан, он поцеловал переконфуженную девушку и сказал ее отцу: "Ну, старина, благословляй!" Подвел ее за руку к Ширяеву. Обомлел старик, принимая слова Алексея Семеновича за шутку. "Нет, друг, - с чувством ответил артист, - такими вещами не шутят, а честную девицу зря не целуют. Я женюсь на Катеньке"".
Петр Петрович допустил в своем рассказе две неточности. Екатерине Ивановне Ширяевой, судя по документам, хранящимся в архиве театральной дирекции, было в это время не семнадцать, а уже двадцать лет. Ровесник же Яковлева - Иван Ширяев имел отчество не Федорович, а Кузьмич; и он не был тогда отставным камер-музыкантом: играя в оркестре петербургского театра на скрипке, он еще не успел выслужить полагающихся до пенсии двадцати лет. В основном же рассказ П. П. Каратыгина выглядит правдоподобным. Его подтверждают и другие биографы актера.
Так или иначе, но сорокадвухлетний Алексей Семенович Яковлев женился в 1815 году на молоденькой актрисе Екатерине Ивановне Ширяевой, о чем свидетельствует и найденная в архиве екатерингофской церкви Екатерины-мученицы брачная запись: "16 августа 1815 года. Кто именно венчаны: дирекции императорских театров актер Алексей Семенов сын Яковлев; а понял себе в супружество оной же дирекции актрису Екатерину Иванову дочь Ширяеву. Обое первым браком".
Выход замуж скромной, тихой, застенчивой, незадолго до этого выпущенной из школы хорошенькой Катеньки Ширяевой за "беспутного и великого" Яковлева был шумной закулисной сенсацией. Рожденная крепостной расточительного графа Сергея Ягужинского (родители ее, Иван Кузьмич и Анна Ивановна Ширяевы, были отпущены с детьми на волю лишь в 1798 году), Катенька избалованностью не отличалась. Судя по всему, она давно уже была влюблена в Алексея Семеновича. И сватовство его к ней не было делом случая. Но о замужестве с ним - этим полубогом на театральных подмостках - она и помышлять не могла.
Неожиданное его сватовство восприняла как великое счастье. И сразу же после свадьбы превратилась в преданную жену, став "примерной хозяйкой и заботливой попечительницей".
Но, видно, не зря Екатерина Ширяева венчалась в церкви Екатерины-мученицы. Если "Яковлев был счастливым мужем",- констатировал Петр Петрович Каратыгин,- то "Катерина Ивановна Яковлева, женщина честнейших правил и редкого благородства, не могла называться счастливой женой". Брак, заключенный без любви, такому человеку, каким был Яковлев - с пылкой, не знающей компромиссов душой, не мог принести счастья...
* * *
14 июня 1816 года был подписан Александром I рескрипт о назначении пенсий театральным служителям. На основе высочайшего рескрипта в книге распоряжений театральной дирекции была сделана запись: "2 августа 1816 года. Предложение г. вице-директора и кавалера П. И. Тюфякина, что именным высочайшим указом, воспоследовавшим на имя министра финансов... всемилостивейше пожалованы пенсионы: российскому актеру Алексею Яковлеву по 4000 рублей и костюмеру Бабини по 975 рублей в год. А так как они оба изъявили желание оставаться и ныне в службе театральной дирекции... то и предписывает сей конторе... со дня увольнения актера Яковлева на пенсион, т. е. с 14 числа прошедшего июня, производство ему из кабинета жалованья прекратить; но продолжать производить ему по-прежнему от дирекции квартирных денег по 500 рублей и по 20 сажен дров в год, а также давать ему ежегодный бенефис".
Пенсия выдавалась сорокатрехлетнему актеру вместе с приклеенной теперь к его имени казенной формулировкой: "за старостью и слабостью". И он, заполучив и пенсию и формулировку, будто совсем махнул рукой на свою карьеру. "О последней эпохе яковлевского поприща сказать нечего,- признавался даже ревностный его защитник Жихарев,- он упадал с каждым днем".
Роль Агамемнона в "Поликсене" Озерова, сыгранная им 28 сентября 1816 года, явилась, пожалуй, одной из немногих, которые начали звучать у него глубже, чем прежде. Особенно удавался ему теперь монолог:
Я молод был тогда, как ныне молод ты, Но годы пронесли тщеславия мечты, И, жизни преходя волнуемое поле, Стал мене пылок я и жалостлив стал боле; Несчастья собственны заставили внимать Несчастиям других и скорбным сострадать...
Но трагедийные роли, с его потерявшим звучность голосом, с подорванными болезнью силами, с потерей веры в себя, становились все более трудны для Яковлева. Он по-прежнему стремился выступать с Каратыгиной. Но он не играл больше с ней, пожалуй, самую дорогую для него роль в "Отелло". Роль Отелло тоже перешла к Брянскому.
Театральная жизнь стала протекать как бы вне его. Там, в дирекции театра, мелькали лица что-то делящих, о чем-то спорящих вершителей сценических судеб: Нарышкина, Шаховского, Майкова, забравшего власть Тюфякина. Плелись обычные закулисные интриги. Начинался так называемый "липецкий потоп" - война задиристо-колкого "старовера" Шаховского с беспощадными к нему "либералистами", огонь которых он сам вызвал на себя комедией "Урок кокеткам, или Липецкие воды", где Яковлев с полным безразличием играл роль пожилого князя. Но в этой, носившей принципиальный характер, борьбе объявленного ретроградом Шаховского с прогрессивными членами литературного общества "Арзамас" он оставался в стороне.
"Мертвая чаша" становилась его постоянным уделом. Изредка, не всегда протрезвевший, с осипшим голосом, он пытался порой гальванизировать игру "прежнего Яковлева". Чаще всего это была жалкая имитация, иногда прорывались в нем "восхитительные" порывы гения. Его вызывали на сцену после спектакля вместе с имевшей постоянный головокружительный успех Семеновой. Но вызовы эти были скорее данью любви к прошлому большого артиста, чем поощрением его теперешних достоинств.
8 января 1817 года он, никогда не любивший носить седые парики, попытался сыграть на своем бенефисе раздавшего свое королевство старого Леара. Гнедичевский "Леар", в котором имел когда-то такой успех Яков Емельянович Шушерин, не принес Яковлеву новых побед. Он сам был расточившим свои богатства "Леаром". И не ощущать этого повседневно не мог.
Все той же щедрой рукой раздавая деньги направо и налево, не зная удержу в мрачных кутежах, он доставлял немало бедствий своей семье. Его не остановило даже рождение 26 августа 1816 года сына, которого когда-то он страстно хотел иметь. Оставаясь все тем же добрым, честным, справедливым, прямодушным человеком, он не мог не терзать себя, когда приходили минуты отрезвления. И "пробуждения" его действительно были "ужасны". Все, что пророчил он себе до женитьбы, сбылось. Из замкнутого им самим круга выйти ему не удалось.
В начале нового сезона, 23 апреля 1817 года, Яковлев, обычно выбиравший для спектаклей в свою пользу пьесы, близкие собственному душевному состоянию, на последний в своей жизни бенефис выбрал "Эдипа царя" А. Грузинцева. Образом влекомого волей безжалостных богов Эдипа к преступной любви и противным человеческому разуму поступкам он как бы сам подводил итог собственной жизни.
После "Эдипа царя" он сыграл еще с Каратыгиной и Семеновой несколько старых ролей. Но они уже принадлежали к тем, за которые "просил извинения" у театральных ценителей Жихарев, призывая потомков не судить по ним, каков был истинный Яковлев...
А между тем жизнь его была исчерпана не до конца.
17 сентября 1817 года, согласно церковной записи, "у придворного актера Алексея Яковлева родилась дочь Екатерина. Молебствована и крещена священником Петром Успенским. Восприемники: подполковник Василий Михайлович Федоров; действительного статского советника г. Титова жена Елизавета. Крещение происходило 23 сентября 1817 года в Троице-дирекционной церкви".
4 октября того же года нелюбимой ролью царя Тезея в трагедии любимого им Озерова "Эдип в Афинах" "чрезвычайно больной", по словам Андрея Васильевича Каратыгина, Алексей Семенович Яковлев закончил свое сценическое поприще.
Около месяца находился он в беспамятстве. 3 ноября, по рассказу Петра Петровича Каратыгина, его посетил восьмидесятиоднолетний Иван Афанасьевич Дмитревский. "Но больной не узнал своего учителя и благодетеля: он был в бреду и тревожно метался в постели...
- Алексей, - произнес Иван Афанасьевич, рыдая. - Кто же нам останется, когда и ты идешь в лучший мир?.. Кто поддержит нашу трагедию?.."
И умирающий Яковлев будто бы ответил словами Димитрия Донского, столько раз сказанными им со сцены: "Языки ведайте: велик российский бог!" Эти слова биографы считают последними в устах великого русского трагика.
Дед Петра Петровича Каратыгина, Андрей Васильевич, запечатлел описываемый его внуком день куда менее романтично и более лаконично: "1817... 3 ноября. Кончина Первого трагического актера Алексея Семеновича Яковлева на 44-м году; оставил по себе сына и дочь, малолетних..." Не менее лаконичной была и запись об умерших, сделанная при отпевании его в Троице-дирекционной церкви, которая находилась при театральной школе: "3 ноября 1817 года. Придворный актер Алексей Яковлев. Погребение совершал священник Петр Успенский. 44. Простудою. В Волковом". (Последняя фраза обозначает место захоронения: на кладбище, где покоился прах родителей Яковлева и его родных.) Такой же достоверно лаконичной явилась и сохранившаяся в журнале распоряжений театральной дирекции запись, сделанная 5 ноября 1817 года, "Об исключении из списков умершего 3 числа сего ноября российского актера Алексея Яковлева и о прекращении производства с того числа жалованья" с резолюцией на ней Тюфякина: "Исключить, а о прекращении производства бухгалтеру объявить".
О "прекращении производства" денег бухгалтерии было тотчас объявлено. И в бумагах театральной дирекции перестал фигурировать действующий актер Яковлев. Фамилия его начала упоминаться с присовокуплением слова "умерший".
* * *
На растерянную, поникшую в горе двадцатидвухлетнюю Екатерину Ивановну Яковлеву с двумя детьми (из коих одному только что исполнился год, а другой чуть больше месяца) со всех сторон набросились кредиторы. После мужа, по расчетам бухгалтерии, ей полагалось всего 9 рублей 44 копейки недополученного им при жизни жалованья, включая сюда и квартирные. Ста рублей, выданных ей на погребение, не могло хватить даже на похороны. Накоплений у нее не осталось никаких. Данные в долг деньги Яковлев не записывал. Сам же при жизни брал в долг так же легко, как и давал.
"Вдова г-на Яковлева,- сообщалось в биографии актера, появившейся без подписи в журнале "Северный наблюдатель" в конце 1817 года,- находилась после смерти своего мужа в весьма затруднительном положении... Купцы, которые говорили беспрестанно о своей искренней дружбе к покойному, отказались помочь ей в нужде; огорченная вдова, получая везде отказы, пришла было в отчаяние".
Не отказал в помощи лишь цирюльник Иван Степанович Донеличенко, издавна ходивший брить знаменитого актера: предложив Екатерине Ивановне весь свой капитал, состоявший из девятисот рублей, он не попросил у нее не только векселя, но и простой расписки. Да свой брат актер: горько оплакивающий друга юности Григорий Иванович Жебелев и обычно замкнутый, творящий добро не словами, а делом Андрей Васильевич Каратыгин. Они-то и взяли на себя всю тяжесть похорон и улаживания материальных дел беспомощной вдовы Яковлева.
У дирекции был ими выговорен в пользу Яковлевой с детьми бенефис, который со всей присущей ему энергией стал организовывать Александр Александрович Шаховской. Подготовка к посмертному бенефису премьера русской драматической труппы началась немедленно. Времени, данного дирекцией, было в обрез. Решили показать второе представление трагедии Корнеля "Горации".
Специально выпущенная к бенефису афиша сообщала также, что кроме "Горациев", в которых выступят Семенова и Брянский, на бенефисе в пользу вдовы и двух малолетних сирот Яковлева пойдет и сочиненный Шаховским водевиль "Крестьяне, или Встреча незваных", с балетным дивертисментом. В них "из любви к воспитаннику своему г. Яковлеву и за уважение таланта его играет актер российского театра Иван Афанасьевич Дмитревский, невзирая на престарелость свою будет представлять роль дядьки и управителя графа Радугина. А также будут петь г. Самойлов и г-жа Сандунова новые куплеты, музыка сочинения капельмейстера г. Кавоса; г. Балашов, пенсионер российского театра... будет плясать по-русски с г-жой Самойловой и Величкиной; г. Люстих с г-жой Новицкой; г. Карл Дидло с г-жой Лихутиной. Наряду со всей балетно-оперной труппой будет играть и русская драматическая труппа в полном составе, во главе с Каратыгиной, Семеновой, Вальберховой и другими".
И такой спектакль в честь актера состоялся. Более чем переполненный зал Малого театра и все три труппы российской сцены почтили память только что отошедшего в вечность актера. Не сумел сделать этого лишь престарелый его учитель, который любил его, наверное, несмотря на прошлые между ними разногласия, более всех. Потрясенный смертью Яковлева, Иван Афанасьевич Дмитревский слег в постель и выступить не смог.
Не были исполнены любовно сочиненные Дмитревским куплеты, в которых последняя его надежда - Алексей Яковлев соединялась с первой - Федором Волковым. Были пропеты другие куплеты, менее архаичные по форме, но не менее прочувствованные, сочиненные Шаховским и исполненные лучшим певцом той поры Василием Михайловичем Самойловым:
Вы все видали здесь его, Блестяща бодрой красотою, Волшебством дара своего, Владеющего всех душою; Вы все, он посвящал кому Свое усердно дарованье, Храня о нем воспоминанье, Воздайте за труды его.
По всему залу, от партера до райка, раздавался громкий, хватающий за сердце голос Самойлова. А на подмостках, у самого края авансцены, по непременному обычаю того времени, впереди всей российской труппы стояла жалкая фигурка Екатерины Ивановны Яковлевой с двухмесячной Катенькой на руках и с прислонившимся к матери годовалым Николенькой, которого она держала за руку. Ведь именно им - троим "бенефициантам", выставленным на обозрение публики в целях возбудить ее сострадание, - и призывали актеры российского театра "воздать за труды" их мужа и отца.
И "воздаяние" ими было получено.
Из дела дирекции императорских театров за М 1582 "О деньгах, принадлежащих детям умершего актера Яковлева". Началось 21/XI-1817. Кончилось 23/1-1834.
"Конторе дирекции императорских театров. Предложение. Известно оной конторе, что в вознаграждение долговременной службы и отличного таланта покойного актера Алексея Яковлева, по назначению моему, дан был в 15 день сего ноября спектакль... При каковом спектакле собрана значительная сумма... Из числа сей суммы при посредстве избранных со стороны по собственному желанию вдовы Яковлевой актеров Жебелева и Каратыгина... заплачено долгов покойного актера Яковлева, кои оказались действительными на 3200 рублей... Также выдана упомянутой вдове ее законная четвертая часть... Достальные же затем деньги принадлежат собственно... двум малолетним его, Яковлева, детям... Капитал сей должен оставаться в сохранной казне опекунского совета неприкосновенным до того времени, пока вышеупомянутые дети достигнут совершеннолетия, и тогда на получение оного себе представят в тот совет надлежащее свидетельство от конторы дирекции... Что касается до процентов, от упомянутого капитала приобретаемых, то... выдавать оные ежегодно вдове Яковлевой для воспитания означенных двух малолетних детей... Ноябрь 21 дня 1817 года. Кн. Тюфякин".
В добавление к этому, говорящему самому за себя, документу следует сказать, что кредиторы еще долго теснили Екатерину Ивановну Яковлеву судебными исками об отдаче долгов (и действительных, и мнимых), о чем также свидетельствуют документы, подшитые в дела театральной дирекции.
Екатерина Ивановна прожила долгую и трудную жизнь. Умерла в 1850-х годах, завещав похоронить себя рядом с мужем на Волковом кладбище, под памятником, на котором было начертано: "Яковлев Алексей Семенович, двора его императорского величества актер. 3 ноября 1817 года на 44 годе. Завистников имел, соперников не знал. Соорудила супруга".
Памятник по тем временам стоил очень дорого.
Останки Алексея Семеновича Яковлева вместе с памятником, который представлял собой трехгранный обелиск из серого известняка с мраморной рельефной накладкой, изображающей светильник и цветочную гирлянду, были перенесены с Волкова кладбища в Некрополь деятелей искусства и литературы Александро-Невской лавры в 1936 году.
Что же касается документов, имеющих непосредственное отношение к Алексею Семеновичу Яковлеву, то, пожалуй, есть смысл упомянуть еще один. Через полтора месяца после его смерти, 18 декабря 1817 года, "его императорским величеством, самодержцем всероссийским Александром I" был подписан указ, коим "Алексей Яковлев из санкт-петербургских купцов" в числе других театральных служителей, числящихся купцами, мещанами, вольноотпущенными, прослужив на императорской сцене двадцать три года и прославив ее, был переведен наконец из торгового сословия, обязанного платить подати, в число "штатных актеров", не имеющих "никаких повинностей".
Воспользоваться сей привилегией Алексей Семенович так и не смог.
* * *
Затем началась уже другая - посмертная жизнь актера.
...Осиротела Мельпомена: Нет Яковлева, нет российского Лекена! Разил он ужасом и жалостью сердца, Дух русский возвышал в Димитрии, в Росславе; Почил под сению лаврового венца, Искусство взял с собой, а имя отдал славе.
Эпитафией, сочиненной в 1817 году только что выпущенным из Лицея однокашником Пушкина Алексеем Илличевским, и обрела она свое начало.
Через три года после смерти Яковлева придет достойная замена ему на петербургской сцене. На ее подмостки ступит восемнадцатилетний сын Александры Дмитриевны Каратыгиной - Василий.
Говоря о Василии Андреевиче Каратыгине, по ассоциации невольно на ум приходит пушкинская цитата. Да, он "в искусстве безграничном достигнул степени высокой". Еще более громкая, чем у Яковлева, слава улыбнулась ему. И все же не постиг он удивительных тайн моцартианства. Тех самых тайн, "восхитительные порывы" которых были отличительной особенностью Алексея Яковлева, а затем на московской сцене - Павла Мочалова.
О таких художниках, какими были они, позже поэт Аполлон Григорьев напишет: "Если несколько раз вы приходите в театр с твердо принятой решимостью не давать над собой воли артисту... если... уступите обаянию сценическому... если вы... потрясены порывом, измучены представляемым... отрекитесь от анализа, отрекитесь хоть в этом случае от своего самолюбивого "я"..."
Таких актеров, какими были Яковлев и Мочалов, в разное время называли по-разному: субъективными, стихийными, актерами-исповедниками, актерами нутра. И за всеми этими обозначениями стояло еще одно, понимаемое уже не в специфическом узкостилевом, а в более широком человеческом смысле: романтик.
"Вы спросите: "Что такое романтизм?" - восклицала Марина Цветаева,- и увидите, что никто не знает; что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются! и запускают вам в лоб!) - слово, смысла которого они не знают. Когда же окончательно убедитесь, что не знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского: "Романтизм - это душа"".
"Восхитительные порывы" души успел заметить только что выпущенный из Лицея Пушкин, увидев Яковлева незадолго до кончины - обессиленного, потерявшего жизненный и творческий тонус, в немногих, далеко не лучших, его ролях. Успел заметить... Но не пощадить самого актера.
"Долго Семенова являлась перед нами с диким, но пламенным Яковлевым... Яковлев имел часто восхитительные порывы гения, иногда порывы лубочного Тальма..."
Разящим, не знающим промаха словом запечатлел Пушкин сходящего в могилу актера. Поэт был молод, порывист, бескомпромиссен, безжалостен ко всему ветшавшему.
Наступило новое время. И этому времени отвечало не мятущееся, пришедшее в упадок искусство последнего периода творчества Яковлева, а возвышенное, достигшее апогея, воспетое Пушкиным дарование Екатерины Семеновой.
Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде

Ф. Г. Волков. С портрета А. Лосенко. 1763 г.
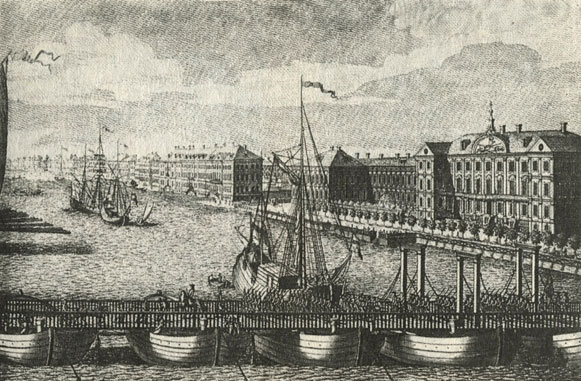
Сухопутный Шляхетский кадетский корпус и головкинский дом. С гравюры М. Махаева.
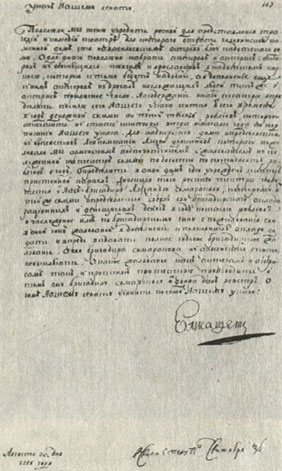
Указ Елизаветы Петровны об организации российского театра.
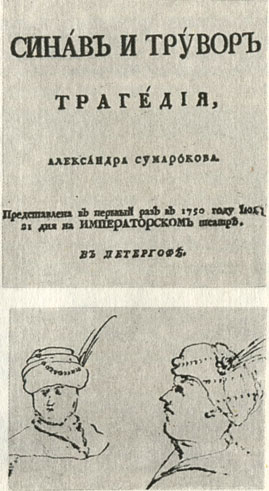
Рисунок А. П. Сумарокова на титульном листе трагедии 'Синав и Трувор'.

А. П. Сумароков. С портрета А. Лосенко.

Я. Д. Шумский. С портрета А. Лосенко.

Т. М. Троепольская. С гравюры Г. Афанасьева.

Н. И. Новиков. С портрета Д. Левицкого.

'Владимир и Рогнеда'. С картины А. Лосенко.
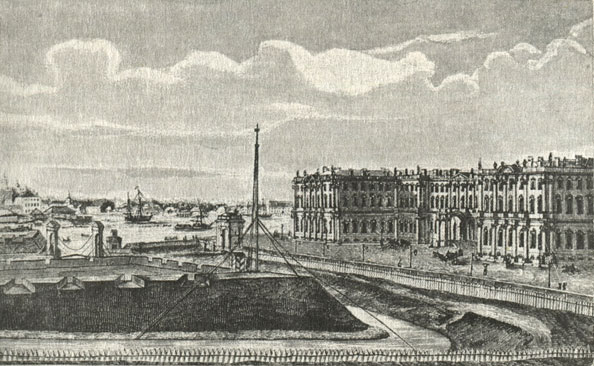
Новый Зимний дворец. Гравюра А. Бенуа по акварели XVIII в.

'Хорев' А. П. Сумарокова. Гравюра на фронтисписе первого издания.
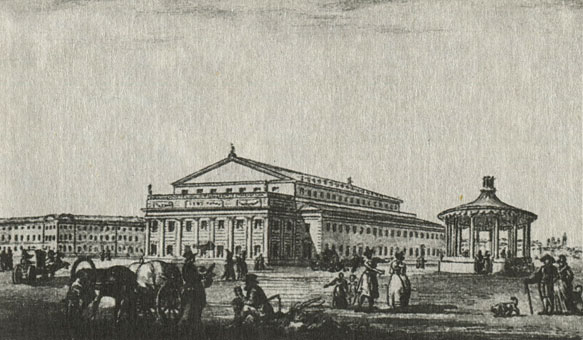
Большой театр в Петербурге. Рисунок Д. Кваренги. 80-е гг. XVIII в.

Деревянный театр на Царицыном лугу. Рис. Д. Кваренги.

Д. И. Фонвизин читает Екатерине II комедию 'Бригадир'. Рисунок П. Бореля.
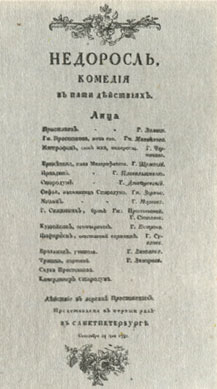
Титульный лист первого издания 'Недоросля' Д. Фонвизина.

Д. И. Фонвизин. С портрета А.-Ш. Караффа. Гравюра Е. Скотникова. 1784-1785 гг.

И. П. Елагин. Гравюра И. Майра с портрета Вуаля.
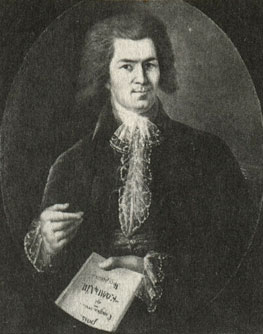
И. А. Дмитревский в роли Стародума. С портрета неизвестного художника.

И. А. Дмитревский. С портрета неизвестного художника. Конец XVIII в.

П. А. Плавильщиков. С портрета П. Бореля.
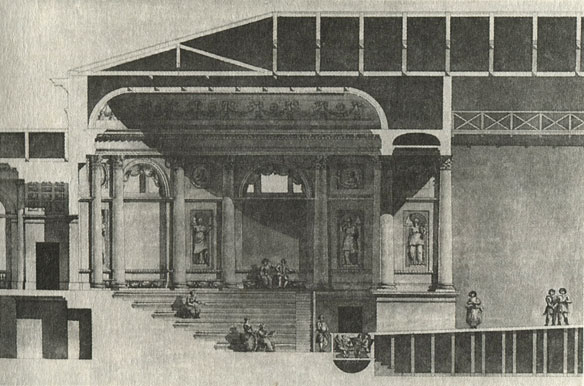
Проект Эрмитажного театра Д. Кваренги. Продольный разрез по зрительному залу. 1783 г.

И. А. Крылов. Гравюра с портрета неизвестного художника. Конец XVIII в.

Я. Б. Княжнин. По рисунку Форопонтова.

А. С. Яковлев. С портрета неизвестного художника.

Садовая улица у Ассигнационного банка. С литографии XVIII в.

А. Д. Каратыгина. С гравюры Л. Геккенауэра. 1807 г.

И. А. Дмитревский. С гравюры О. Кипренского. 1814 г.

А. Л. Нарышкин. С гравюры А. Ухтомского. Начало XVIII в.

В. А. Озеров. С портрета неизвестного художника. Начало XIX в.

А. Яковлев - Фингал. Гравюра И. Иванова по рисунку В. Лукьянова. Начало XIX в.

Сцена из драмы Н. Ильина 'Лиза, или Торжество благодарности'. Фронтиспис издания 1817 г.

А. С. Яковлев. С портрета неизвестного художника. Начало XIX в.
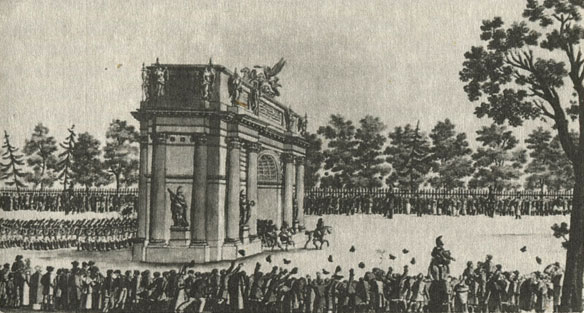
Возвращение гвардейских полков в Петербург 30 июня 1814 года. С рисунка неизвестного художника. 1810-е гг.

Дорога в Красный кабачок. С гравюры по рисунку Зауэрвейда. 1813 г.
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'