
Костромские тетради
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.
Б. Пастернак
Еще до гастрольного турне Костромской студии по Волге и Унже А. Д. Попов съездил в Москву.
Там произошли перемены огромного значения. В Москву переехало Советское правительство во главе с В. И. Лениным. Москве, которая в течение двух веков занимала исключительное положение "столицы духа", следовало привыкать к образу жизни центра, руководящего всей огромной страной - Советской республикой. В Кремле работал Совнарком, формировались советские учреждения, один за другим подписывались все новые декреты о национализации различных отраслей промышленности, предприятий, частных фирм. Шла и национализация театра. Попову и надлежало оформить перевод студии, до тех пор числившейся при Костромском губнаробразе, в ведение ТЕО Наркомпроса.
По проекту, выдвинутому наркомом Луначарским, все управление театральным делом в республике сосредоточивалось в Центро-театре; национализированные театры получали автономию. 26 августа 1919 года правительственный декрет "Об объединении театрального дела" утвердил проект. Решением Центротеатра Костромская студия превращалась в автономный передвижной театр РСФСР и была переименована в Театр студийных постановок (ТСП).
Пора привыкать и к новой системе руководства театральным делом, к отчетности, к длинным наименованиям учреждений, а также к их сокращениям, употребляемым для скорости и в устной речи и на бумаге: губком, горисполком, губчека, совпроф. ТЕО - Театральный отдел Народного комиссариата просвещения. Надо обдумать и задачи коллектива в связи с изменением статуса студии. Работа собственно учебная, лабораторная должна отодвинуться на второй план. Попов решает перенести занятия по "системе" Станиславского (от них он отказаться никак не может, "ведь только начали, только продвинулись немного!") непосредственно в репетиционный цикл. Главное же - новые спектакли, репертуар, который должен отвечать запросам новой эпохи, ее требованиям: поскольку театр - дело государства, четкие "требования" все чаще сменяют былые расплывчатые "запросы", "веяния", "духовные связи".
Живая действительность, революционный быт, непосредственные впечатления дня входят в студийные этюды.
Поначалу сюжеты - дореволюционные, семейно-бытовые (бедный родственник пришел к богатому одолжить денег, гувернантка тайно влюблена в хозяина, сестры-соперницы и т. д.). 30 июня 1919-го в дневнике Кротковой запись: "Мы решили, что слишком увлеклись интимными чувствами и переживаниями, и потому постарались изменить темы и настроение этюдов". Так появляются в студийных выгородках курсистки, прячущие нелегальную литературу, девушка, пробирающаяся на фронт к раненому брату; так сюжетом становится обыск или нападение бандитов-григорьевцев на поезд, который идет из Москвы в Киев, а в купе делегатского вагона едут совершенно разные люди: большевик, трое попавших по протекции, спекулянт. Это обновляются этюды. Драмы же, непосредственно отражающей современность, у Попова пока нет.
Но и старые студийные спектакли начинают как-то изменяться, звучать несколько по-иному. Это происходит непреднамеренно, само собой. А порой изменения вносятся специально.
Попов пишет Вахтангову (3 августа 1919 года): "...в "Сверчке" я целиком почти взял режиссерскую разработку Леопольда Антоновича, я не мог отрешиться от души Л. А., которая царит в "Сверчке", и от найденного им "сквозного действия" - "Радость нас окружающих входит в состав наших радостей и дает величайшую милость неба - веселость". Да и глупо было бы стараться что-то выкомаривать другое.
Единственное, что я хотел усилить, углубить в "Сверчке", - это святочный рассказ и игрушечность и сказочность всех персонажей "Сверчка", тогда как в Москве только Вы - Текльтон были игрушкой, и мне удалось это без ущерба психологической правде образов.
Тилли, Калеб, Фильдинг и Слуга в игрушечности не отставали от Текльтона и вязались с ним, только меньше удалось или почти не удалось с Джоном, Малюткой и Бертой. В смысле внешнем, декоративном в первом акте я старался синтезировать уют и поэтому поставил почти во всю сцену домашний очаг (а не каминчик). У Калеба я старался создать мир сказки, старался уйти от реального воспроизведения игрушечного магазина и достиг этого причудливостью красок и утрированностью размеров и рисунков игрушек. Вообще я доволен результатом и многому научился как режиссер на двух этих пьесах и теперь смело приступаю к новой для себя пьесе, "Ученику дьявола" Б. Шоу. А главное, студийцы мои прошли на этих двух пьесах хорошую школу. Я дал им больше, чем я могу дать, т. е. передал им все, что давали "Сверчку" Леоп. Ант. и Конст. Серг., а "Потопу" - Вы. Я думал недавно, что же в результате этой зимней работы мы достигли? Каков итог? И пришел к такому заключению: показать что-либо ценное в актерском достижении мы не можем Конст. Серг. или Евг. Богратионовичу, но зато если бы они сейчас пришли в студию, то, не теряя ни одной минуты, могли бы заниматься любой пьесой, любым отрывком и т. д. Одним словом, в Костромской студии они не чувствовали бы себя, как на острове Таити, где люди исповедуют другую веру и говорят на другом языке. Это достижение вполне меня удовлетворяет. Скажите: может быть, это очень мало?.."*.
* (Музей Театра имени Евг. Вахтангова, № 209/р.)
Здесь интересны и определение "сквозного действия" "Сверчка на печи" по Сулержицкому и рассказ Попова о том, что именно он хотел "усилить" и "углубить" в спектаклях Первой студии: смещены пропорции, возникла фантастическая картина игрушечного царства в сцене у мастера Калеба*.
* (Интересно, что и московский "Сверчок на печи", который долго шел после революции (3 декабря 1922 г. сыгран был 500-й спектакль), приобрел тоже несколько иное звучание. Ю. Соболев заметил, что "неожиданно ярко засверкала его театральность", краски святочного маскарада, "занимательная интрига".)
Почему-то Попова тянет рассказать обо всем этом Вахтангову. Конечно, понятно: он досконально проработал вахтанговский "Потоп", он ориентируется на его Текльтона в "Сверчке на печи". Но есть еще и какое-то пробудившееся особое тяготение к творчеству именно Вахтангова-режиссера, Попов все больше думает о нем.
В "Потопе" он решил строго придерживаться вахтанговской партитуры, но и этот спектакль самовольно меняется. "Несовместимость идеи равенства и братства с буржуазным строем" - так определил Попов тему пьесы, это формулировка уже послереволюционная. Соответственно этому в центр спектакля встает фигура идеалиста О'Нейля, тщетно пытавшегося возродить тех, кто духовно погиб в мире корысти.
Отсюда лишь шаг до самостоятельных режиссерских решений. Пьеса "Ученик дьявола" Шоу привлекла жесткостью, ироничностью, антибуржуазной сатирой. Действие происходило в Северной Америке XVIII века, во время войны за независимость. Сюжет строился на парадоксальной перипетии: вожак повстанцев, богохульник - "ученик дьявола" Ричард Деджен, бросавший вызов и английским поработителям и косной "жабообразной", как говорил Попов, среде, в час испытания шел на казнь, чтобы спасти священника, а смиренный пастырь превращался в смелого борца и устремлялся туда, "где свистят пули, где гремят выстрелы". "Распахивая" историческую почву далеких событий, анализируя резко очерченные характеры, Попов хотел создать спектакль романтический и приподнятый, но без декламационности.
Было во всем этом и нечто типичное для времени. Свободолюбие, богоотступничество, сатира на буржуа - экстракт театральных идей, быстро распространявшихся после Октября. Это были первые подступы к революционной теме, первые попытки найти "созвучие" переживаемой эпохе. Словосочетания "созвучная революции" драма, "созвучный революции" спектакль имели тогда смысл широкий и расплывчатый. Революция в жизни влечет за собой революцию форм, так считали все. Но что же такое "революция театра"?
Если бы можно было вытянуть в одну линию все театральные сцены, удивительная получилась бы экспозиция! На левом фланге оказались бы те, кто прямо отождествил себя с революцией, взяв полномочия ее представителей и комиссаров, назвав свое искусство "театральным Октябрем". Будто бы из черно-белой невской вьюги, из пламени костров у Смольного, из-под кровавого флага блоковских "Двенадцати" вырастает в непомерную высоту фигура первого "красногвардейца" на театре - Всеволода Мейерхольда. Сменив лоскутья Арлекина и камзол изысканного Доктора Дапертутто на кожанку, на фуражку с красной звездой, он в 1918 году вступает в ряды РКП(б), переезжает в Москву вслед за Советским правительством, организует Театр РСФСР Первый, а в конце 1920-го провозглашает лозунг "гражданской войны в театре" - новый соблазн митингов, речей, воззваний. Великая игра, и студийцы - "солдаты армий", и "кто не с нами, тот против нас"!
На правом краю театральной панорамы - саботажники (их все меньше: белые пароходы с беглецами уже ушли в Стамбул, оставшимся нужно жить в иной, но все равно своей России), молчуны, те, кто предпочитает делать вид, что ничего не произошло, а если и произошло, то пусть: артист есть артист, и дело его играть для публики. И слабое, обреченное сопротивление, бессильный Эзопов язык...
А между крайними точками - лабиринт путей-дорог искусства, "созвучного революции". Необычайная репертуарная пестрота. Ее стимулируют рекомендательные списки ТЕО Наркомпроса, которые составлялись специальной комиссией с участием А. А. Блока, М. Горького, П. П. Гнедича и других представителей высшей художественной интеллигенции, активно сотрудничавших с Советской властью. Списки включали в себя мировую классику и современную драматургию от Эсхила до Стриндберга, от Рютбефа до Ф. Сологуба. Поднимается с книжных полок, перетряхивается, заново прочитывается весь накопленный человечеством репертуарный фонд. Освободительные движения и войны, революции прошлых веков, вожди угнетенных масс, Оливер Кромвель, Дантон и Робеспьер, Вильгельм Телль, Степан Разин и Емельян Пугачев, маркиз Поза и Дон Карлос, кровавые тираны, заговорщики, крестьяне Жакерии, взбунтовавшиеся рабы Древнего Рима, благородные разбойники, жертвы инквизиции - сумятица персонажей мировой драмы и лиц мировой истории, заполнивших сценические пространства. Ставятся и пьесы, ранее запрещенные цензурой по причинам политическим или религиозным. К многолюдию бунтарей присоединяются Саломея с головой Иоанна Крестителя на блюде, Царь Ирод, цареубийцы, коронованные злодеи из дома Романовых, Потемкин, Распутин. Одновременно тянется многоцветным шлейфом символико-декадентский репертуар, пробуждается особое тяготение к пьесе в стихах, к мистике, к чуду... Русская сцена ни до, ни, разумеется, после не знала такого обилия названий и фамилий авторов, такой их экстравагантности, как в те годы, которые получили суровое определение "военного коммунизма".
Подвиги смелого американца Ричарда Деджена - В. Кожича на маленькой сцене костромского Театра студийных постановок, репертуар ТСП - характерный фрагмент всероссийской театральной жизни.
Начало 20-х годов в биографии А. Д. Попова - время клубящихся, летящих замыслов, примерок и проб. Они - и на сцене ТСП и в режиссерских тетрадях костромского периода. Зарисовки, эскизы, наметки, игра линий, пятен, объемов - снова он не расстается с карандашом, тушью и акварелью.
Накопленное годами учения и внутренней работы ныне жаждет выплеснуться, реализоваться. В ход идет все из закромов и запасников: и воспоминания "домхатовского" театра, и балаган, и давние уроки в казанской мастерской Н. И. Фешина, и, конечно, все, что приобрел он в московские годы.
Строить спектакль - какое увлекательное дело! Перед тобой тоненькая тетрадка пьесы, сцена пуста... Увидеть будущее действие цельным, от начала до конца, мягко переливающимся из картины в картину или четким, строгим, как ритм марша, стремительным или неторопливым, изменчивым или эпически спокойным! Как впишется фигура актера в декорации, в общую сценическую композицию, в среду? Как соединится речь с изображением, музыка со словом, герой с фоном? Как осуществить смену картин? Откуда, наконец, будут входить и куда уходить персонажи? Все эти сложные и элементарные вопросы режиссерской профессии Попов решает на практике и в условиях нелегких: репертуар пестр, средства скудны, сцена тесна - приходится изобретать.
"Налим" в Чеховском спектакле. Действие рассказа, как известно, происходит в пруду. А как быть в театре? Попов пустил по переднему плану деревянный мостик, слева поставил раскидистое дерево, приподнял берег воображаемого пруда. Мужики - ловцы хитрого скользкого налима - видны по пояс, на мостике - барин. Просто, остроумно, смешно!
В "Ученике дьявола" на фоне серых сукон возникали фрагменты писаных декораций (эшафот и грозовые облака в финальной сцене казни), интерьеры упрощены, лишь с самыми необходимыми аксессуарами и приметами среды; действие дробилось на короткие эпизоды.
Мольеровские "Проделки Скапена" Попов решает как балаганное, ярмарочное представление, Скапена - В. Кожича одевает в двухцветный клоунский костюм. Установка - словно бы разрезанный по вертикали ярмарочный шатер. Половинки расступились, образовали между собой игровую площадку. На пустой сцене еще несколько бочек. Весело, ярко, легко.
Мечты... В своей крохотной читальне Островского, с неоперившейся молодежью, в нищее военное время Алексей Попов задумывает "Гамлета". Возможные варианты решения: первое ("патриархальное"), где в центре сценической композиции лесная деревянная постройка; второе ("классицизм") мыслится в камне. Третье - "Гамлет" будущего - железо, стекло, бетон". Попов останавливается, конечно, на "Гамлете" будущего", рисует эскизы. Стеклянный купол с ромбовидными переплетами смещен вправо, где его обнимает широкая винтовая лестница. Косой наклон сценической площадки. Тень отца появляется за стеклом. По лестнице будут спускаться воины Фортинбраса. Эскизы в цвете - сине-сером, стальном, холодном, фигуры черные. Красиво, строго. Это непохоже ни на "Гамлета" в серых сукнах, некогда игранного в Саратове Д. М. Карамазовым, ни на "Гамлета" Крэга... Это "московский "Гамлет" конца 10-х годов, в нем стеклянные потолки московских пассажей, стеклянные лифты, ангары - предчувствие конструктивизма. Постановка не осуществилась, но с тех пор мечта о Шекспире, которая давно жила в душе Попова, стала мечтой режиссерской.
Запись о Гамлете: "Он в навозе выпачкался и ходит (он протестант, а из него чахотку делают)". О сцене у фонтана из пушкинского "Бориса Годунова" (она тоже дана в разработке): "Авантюристы они оба (Марина и Самозванец), медлить они не могут, потому что авантюристы, ибо тогда их раскроют. Чтобы не было торжественного сплина"*. Вот как сурово заговорил мягкий Алексей Попов!
* (ЦГАЛИ, ед. хр. 12.)
В первой костромской тетради расположился целый спектакль, тоже не поставленный. Это "Вий" Гоголя в собственной инсценировке Попова. Сохранился текст ее, почти доведенный до финала. Замысел талантлив, оригинален.
В Художественном театре Попова очаровывал высокий иллюзионизм, белые ветви вишневого сада, прозрачные березки в финале "Трех сестер". Сейчас он отходит от этих средств выражения, ищет иной театральный эквивалент натуры. Это видно в замысле "Вия". Перемещения героев в пространстве лунных украинских полей с их опасными хуторами, с ночной церковью, где маловерного философа Хому Брута испытывает смертельным страхом нечисть, мертвая ведьма-красавица и чудовище, чьи веки идут до самой земли, - все это претворяется у Попова в цельное решение, подсказанное лубочной картинкой.
Продуман план сценической реализации. Скругленная, четкая линия горизонта, на пратикаблях - лес, рожь; сказочные, жутковатые, с сучьями-крючьями стволы деревьев будут вырезаны из фанеры; ярко-синее лубочное небо, желтый месяц и крупные звезды. В бытовых сценах (на хуторе, в трактире, у ректора) - дух вертепа, того самого, с которым отправлялись домой в праздники гоголевские бурсаки. И все украшено большими, пышными подсолнухами.
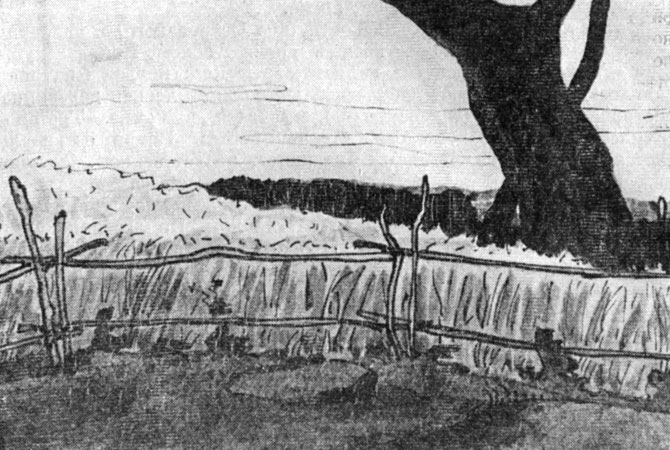
'Вий' Н. В. Гоголя. Эскиз А. Д. Попова
"Иван в раю" - философическая сказочка А. В. Луначарского. Сцена закрыта по порталу черным щитом, в центре - прямоугольный прорез-просвет, словно та дверь в рай, у которой стоит с ключами св. Петр. По бокам, на черном, - два светца, а в прорезе - нежные, радужные краски райских кущ.
Не только в репертуаре Театра студийных постановок, но и в замыслах Попова легко заметить совпадения, скорее закономерные, чем неожиданные, с теми режиссерскими исканиями, которые шли тогда в далеких от Костромы центрах - в Москве и Петрограде.
Лозунг "яркой и праздничной театральности" выдвигается в ту пору многими, объемлет невиданную пестроту разнородных явлений. "Поиски яркой театральности" - сказано и в программе TCП (1920).
Нужно, однако, сразу задуматься о том конкретном смысле, который вкладывал Алексей Попов в понятие "театральность". Здесь необходима максимальная точность, иначе нам потом не выбраться из противоречий, не пробиться сквозь клише оценок. Собственное понимание "театральности" складывалось у Попова с начала его режиссерской самостоятельности. Оно будет эволюционировать, углубляться, по-разному проявлять себя в спектаклях, но в существе своем не изменится. Вот почему оно так важно. Оно неотделимо от личности Попова, неотрывно связано скорее с нравственно-этической, нежели собственно эстетической программой.
Начиная с середины 1900-х годов понятие "театральности" привычно связывалось с экспериментами в области "антинатуралистической" формы спектакля. "Театральность" и "театральная условность" становились едва ли не синонимами.
В записях, альбомах, заметках Попова, относящихся к московскому периоду, в его письмах к А. А. Преображенской нет решительно ничего, что свидетельствовало бы о поисках "новых форм" или полемике с таковыми. Словно бы и не существуют вовсе ни Мейерхольд, опровергающий эстетику МХТ, ни Камерный театр Александра Таирова, ни студия Ф. Ф. Комиссаржевского. Нет даже упоминаний. Нет никаких отзвуков от громких споров. В зрелые годы, вспоминая предреволюционную театральную картину Москвы, а также и Петрограда, где Алексей Дмитриевич ежегодно бывал на гастролях с МХТ, он говорил об отношении молодых актеров Художественного театра к формальным исканиям того времени: "Это искусство интриговало нас, но никак не могло удовлетворить, потому что в нем не было трепета живого человеческого сердца". В этом - Попов.
Водораздел между искусством истинным и неистинным, своим и чуждым ему пролегает для него не в области сценической формы как таковой. Критерий для него иной: есть ли в этом спектакле глубина, серьезность, истина страстей и правда актерского переживания. Факт "условной" ("театральной") формы спектакля сам по себе для Попова еще ничего не означает, не несет в себе ни положительной, ни отрицательной оценки.
У него не было в этих вопросах никакой предвзятости, его вкусы и пристрастия рождались от души, без подсказки со стороны каких- либо авторитетов или господствующих вкусов дня. Он горячо любил "реалистов" Серова, Левитана и Поленова, но столь же радостно принял в сердце "неоромантика" Борисова-Мусатова и "мирискусника" Добужинского, вовсе не задумываясь, к какому художественному течению они принадлежат. Он перерисовывал в свой холщовый альбом эскизы Гордона Крэга с той же доверчивостью и увлеченностью, что и декорации Симова. Серые условные холсты "Гибели "Надежды" казались ему ничем не хуже, нежели декорации "Мнимого больного", доподлинно и эстетизированно воспроизводившие Дом французского буржуа XVII века. В серых сукнах "Гибели "Надежды", в скупых и лаконичных фрагментах обстановки умел видеть Попов (умели и зрители) цельную и правдивую картину жизни, потому что актеры приносили с собой и страшную непогоду, и грозное дыхание северного моря, и щемящую тревогу за ушедших в плавание. Иными словами, сценическая форма, если понимать под нею внешний облик спектакля, была для Алексея Попова следствием, выражением, но никак не первопричиной или двигателем режиссерских исканий.
Но сейчас, в пору испытаний гражданской войны, разрухи, считал Попов, сама действительность зовет искать формы "яркой театральности". Жизнь - суровая, трагическая, полная напряжения и борьбы, - отвергает полутона, недоговоренности, тихий голос "интимного театра". Театр сейчас должен работать так, чтобы его искусство "облегчало тяготы, холод и голод, отвлекало от печали о погибших от сыпняка и на фронтах"*, чтобы спектакль давал заряд бодрости.
* (ЦГАЛИ, ед. хр. 388.)
Так и ведет он свои костромские поиски, не предчувствуя, что скоро - и не раз - придется ему выдерживать нападки "слева" и "справа", ведет свои поиски и проходит режиссерскую школу в одиночку, на ощупь, как подсказывает ему сердце.
Его начинает, правда, тяготить провинциальная изоляция: всего несколько коротких наездов в Москву, с трудом доходящие до Волги театральные журналы и репертуарные издания ТЕО. "К вам пока не хочется и кажется, что у вас скучно, - пишет он в Москву А. И. Чебану. - Единственное, что мне бы хотелось, - это увидеть на премьере новой пьесы кого-нибудь из вас, чтобы сказали свое веское слово; особенно хотел бы видеть на спектакле тебя или Вахтангова".
Опять Вахтангов! Мысли то и дело к нему возвращаются. В Москве, рядом, Попов столько о Вахтангове не думал.
Однажды зимой 1919/20 года "удивленные костромичи наблюдали, как через Волгу, покрытую белым снежным ковром, медленно тянулся обоз из пятидесяти семи розвальней, на которых перевозился театральный багаж и ехали актеры"*. Это прибыла из Петрограда молодая труппа, приглашенная в Кострому на городскую сцену, куда ТСП выходить еще не решался.
* (Петров Н. В. 50 и 500. М., ВТО, 1960, с. 181.)
Дружный и симпатичный коллектив, состоявший из воспитанников Александринского театра, возглавлял Николай Васильевич Петров. Он начинал в МХТ еще до прихода Попова, потом переехал в Петербург. Там прилепился к нему легкомысленный псевдоним "Коля Петер", а также ласковое имя "Кокоша", - и то и другое подходило этому легкому человеку с приятной располагающей внешностью. В Москве он был незаменимым организатором "капустников" "Летучей мыши", а в столице сумел покорить и заставил признать себя даже спесивых премьеров Александринской сцены и саму М. Г. Савину, ее, царицу, с которой шутки были плохи. Покорил он и Попова. Два эти человека, очень разные - один "заводной", другой замкнутый, стеснительный - сохранят друг к другу теплую симпатию навсегда, и их лица будут озаряться озорной улыбкой при встречах в ГИТИСе, когда оба они станут уважаемыми профессорами.
"В богоспасаемой, занесенной снегом Костроме" (так писал Попов через много лет Петрову) они подружились. Сблизилась и молодежь. Приезжие много рассказывали о театральном Петрограде. А ночами после спектаклей закипали споры.
Скучно стало весной, когда труппа Петрова уехала восвояси к Неве. И непоседливый Алексей Попов тоже решил пуститься в путь.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'