
"Месяц в деревне"
А в паузах между репетициями "Гамлета", иногда достаточно продолжительных, Станиславский отдается с увлечением педагогической работе с актерами по проведению своей "системы" в жизнь. Пробы на репетициях "Ревизора" переносятся теперь на постановку "Месяца в деревне". Заметно меняется сам характер репетиционной атмосферы, где процесс становится подчас важнее результата. Соответственно меняется и назначение режиссерского экземпляра: Станиславский теперь фиксирует в нем не столько свой замысел постановки, сколько каждый раз приоткрывает актеру дверцу к овладению "внутренней техникой". Появляется здесь и новая терминология: размечены по всей пьесе "куски", круги "лучеиспускания", "приспособления" и прочие элементы складывающейся "системы" (заводится даже специальный репетиционный экземпляр пьесы, содержащий всю эту "техническую" разработку).
Показательно, что режиссерские замечания к комедии И. С. Тургенева "Месяц в деревне", написанные Станиславским в 1909 году, содержат даже специально теоретические рассуждения (о трех направлениях в искусстве: переживание, представление, ремесло), что прежде в его режиссерских экземплярах почти не встречалось. Тургеневская пьеса берется прежде всего как подходящий материал для углубленного постижения психологии героев, "тончайших изгибов любовных переживаний". Сверхзадачей постановки становится не только раскрытие современного звучания идей и образов комедии, но и постижение новой актерской техники.
С пьесой Тургенева Станиславский обходится без того особого пиетета, который всегда отличал его чеховские постановки. Видимо, считая пьесу чересчур многословной, он прежде всего решительно сокращает разговоры тургеневских героев (так и чувствуется повсюду раздраженный карандаш режиссера, воспитанного на чеховском лаконизме!). Целые монологи он предлагает играть "без слов". Ему кажется, что та особая манера игры, какая была опробована им в "Драме жизни", теперь как нельзя более подойдет к тем "тонким любовным кружевам, которые так мастерски плетет Тургенев".
Чтобы "обнажить на сцене души актеров.., пришлось снова прибегнуть к неподвижности, к безжестию, уничтожить лишние движения, переходы на сцене, не только сократить, но совершенно аннулировать всякую мизансцену режиссера. Пусть артисты неподвижно сидят, чувствуют, говорят и заражают своими переживаниями тысячную толпу зрителей*". То, что не получилось в "Драме жизни", с ее условной страстью, очищенной от психологии, то было достигнуто на тургеневском психологизме. Прежняя чеховская актерская техника - техника подтекста и "скрытости" чувств - доводилась до совершенства, органически соединяясь с находками условного театра. Так раскрывалась формула Станиславского о том, что "всякое отвлечение, стилизация, импрессионизм на сцене достижимы утонченным и углубленным реализмом**".
*(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 326.)
**(К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1, стр. 414.)
Но, разумеется, спектакль "Месяц в деревне" получился столь совершенным произведением искусства не только потому, что в нем была с успехом применена новая "душевная" актерская техника. Замечательно, что здесь Станиславский, при всем своем увлечении теорией, остался по-прежнему глубоко мыслящим современным художником. Он почувствовал и поднял в тургеневской пьесе ту близкую себе тему, которая получала в новые, послереволюционные времена особую, неожиданную окраску.
Тема интеллигенции и народа, влечение духовно утонченной, совестливой натуры героя к загадочной и смелой разрушительной силе, несущей ему гибель, возникавшая перед Станиславским в отвергнутой им блоковской пьесе, теперь предстала в теплом, человечном, психологически "безошибочном" варианте. Именно так, широко и сложно связанной с сегодняшним его мироощущением, воспринял режиссер старую, много раз игранную тургеневскую "повесть в драматической форме". Его не заинтересовала ни фабула любовного соперничества двух женщин, опытной и юной, ни модная идея женской эмансипации. И даже драма Верочки, с такой лирической силой игранная когда-то М. Г. Савиной, не тронула его.

'Месяц в деревне' (1909). Ракитин - К. Станиславский
Главная мысль, ради которой он ставил эту грустную комедию Тургенева, вела к разрушению "эпического покоя дворянск[ой] жизни*" и разрыву "тонкого эстетизма" психологических кружев от соприкосновения с "глотком свежего воздуха", от "приближения к настоящей природе", от смелого увлечения человеком "базаровского отношения к жизни". Тот "глоток свежего воздуха", который жаждет испить Наталья Петровна, влюбляясь в студента Беляева, и становится "сквозным действием" будущего спектакля. "Кружево - прекрасная вещь, - говорит она Ракитину, - но глоток свежей воды в жаркий день гораздо лучше". "Вот она та самая мысль, кот[орая] привлекает все вним[ание] Натальи Петровны", - замечает Станиславский.
*(Здесь и далее цит. режиссерские замечания К. С. Станиславского к комедии И. С. Тургенева "Месяц в деревне" (1909 г.). Музей МХАТ, архив К. С.)
Женщина, живущая в атмосфере утонченно-эстетической дворянской культуры, воспитанная в рамках привычного этикета, согласно которому "неприлично слишком сильно увлекаться", как бы чувствующая себя все время "в корсете", испытывает непреодолимое влечение к сильному, свободному, простоватому молодому человеку с большими руками ("вижу большие руки Беляева"), который легче "умеет говорить с простонародьем", чем с людьми ее круга. Ситуация эта, нарушающая "эпический покой" безмятежного деревенского существования, делает несчастными сразу нескольких людей и прежде всего юную Верочку.
Режиссер, однако, не подчеркивает драматизм самой ситуации, не стремится (как во многих прежних работах) ощутить остроту контрастов. Все внимание его отдано психологическим нюансам сложных человеческих отношений, едва заметным переливам из одного состояния в другое, недосказанным душевным движениям, смутным порывам и противоречивым желаниям. Драма свершается в молчании. Зритель слушает только подтекст. Так получают развитие лирико-эпические традиции чеховского стиля. Внешний драматизм намеренно затушевывается, скрадываются поступки, замирают движения, жесты. Переосмысленная по-новому эстетика "неподвижности" уже не входит (как в "Драме жизни") в противоречие с резкими драматическими контрастами. Ничто не должно отвлекать пристального внимания зрителя от той "диалектики души", что тончайшим ажурным кружевом вяжется перед его глазами.
При таком прочтении тургеневской пьесы в центр режиссерского замысла выдвинулись взаимоотношения Натальи Петровны с Ракитиным. Это случилось не только потому, что они особенно сложны и интересны в пьесе, но и потому, что образ Ракитина (которого играл Станиславский) стал необычайно важным звеном всей философской концепции спектакля. Герой блоковской "Песни Судьбы" Герман, едва заслышав зов Судьбы, свободный зов Природы, безоглядно уходил из своего уютного интеллигентного дома, от своей любимой и любящей жены. В этой безоглядности не было ни жалости, ни печали о прошлом. Скорее жестокость осознанной необходимости.
Станиславский не приемлет этой стихийно-разрушительной необходимости. Все понимающий и сам бесконечно несчастный, Ракитин как бы находит в себе силы подняться над остротой сегодняшней ситуации и стать мудрым судьей времени с позиций истории. Он мужественно признает необходимость "свежего воздуха", но вовсе не уверен в том, что ради этого следует уничтожить поэзию прошлого, разорвать тот тонкий "кружевной" эстетизм, который составлял особую прелесть старой дворянской культуры. Ведь когда разрывы свершаются, они рвут по живому. Развивая мотивы "Вишневого сада", Станиславский как будто снова внутренне полемизирует с позицией Блока, пришедшего в эти годы к мысли о "возмездии", к трагическому приятию идеи гибели старой русской культуры во имя свободы будущего. Он готов осудить вместе с Блоком и осуждает "надменное этикетное барство", но явно защищает поэзию и романтику высокой эстетической культуры.
Не случайно по замыслу режиссера "атмосфера насыщается драмой" именно в момент спора Натальи Петровны с Ракитиным о природе. "Тонкий эстет" Ракитин "уходит в настоящую поэзию". Но "она не ценит теперь этого эстетизма, напротив, выпив глоток воздуха - приблизившись к настоящей] природе, - она теперь глумится над эстетизмом в смокинге и перчатках, хотя когда-то она сблизилась с Ракитиным, быть может, частью из-за его понимания красоты и из-за его светского изящества". И поэтому говорит с ним теперь "очень едко, нервно - беспощадно". Однако нравственное превосходство в этом душевно-философском споре остается все-таки на стороне "эстета в смокинге и перчатках". В решающий момент Наталья Петровна не выдерживает: под "ударами ревности" в ней просыпается "большая барыня", "гувернантка противная", "строго-надменная, капризная", "сухая, жестокая", хотя она и "скрывает хитростью эту жестокость". Позже эта жестокость естественно потянет ее к подлости. Сначала в сцене с Верочкой, которую она словно "мать уговаривает лаской сделать подлость", а потом и в сцене объяснения с Беляевым.
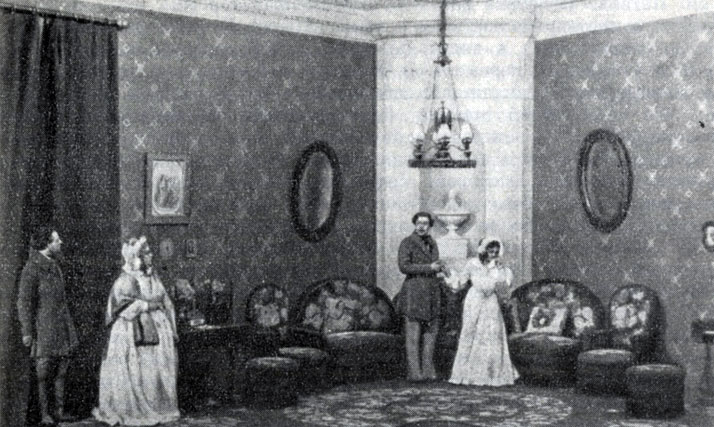
'Месяц в деревне' (1909 г.), сцена из третьего действия
Беляев "взошел, и все стало ясно, почему Наталья Петровна - любит его, а не Ракитина. Чувствуется свобода, ширь, смелость, сила и свежесть". Она "взглянула и потеряла самообладание - он опять захватил ее как мужчина. Она пасует перед его свежестью, прямотой и свободой". Но у Беляева нет "никакого намека на любовь. Он даже не всматривался в нее. Кроме того, [в нем чувствуется] большая чистота и вера в св[ою] правоту". И тогда, используя всевозможные "круги душевной хитрости", она пытается "добиться своего". Сначала довольно невинно: "Все это немного подло, конечно, но это очаровательно у женщины, которая любит, ревнует и т. д.". А потом уже "хитрит по-настоящему", касаясь отношений Беляева с Верой. "Это уж просто-напросто подлость!" - не выдерживает Станиславский, и дальнейшие куски роли Натальи Петровны то и дело помечает словечком "подлюга".
Способным на героизм в этой драме оказывается лишь Ракитин. Поняв, что Наталья Петровна влюблена, он поднимается над своим чувством и болью, печется о ней и "проявляет здесь героизм, в смысле простоты и самоотверженности". Ракитин твердо решает "выполнить последний героизм, чтобы заслужить доверие": "Я уеду сегодня же". Он "симпатичен тем, что он просто горячо заботится об Н. П., что он не корчит из себя героя". Режиссеру очень важно, что "Ракитин здесь чудесный. Он весь в заботах о ней и не думает о себе. Горячо старается успокоить ее... живет заботой о ней - с героическим самоотвержением".
Но Наталье Петровне весь его старомодный героизм, вся его романтическая самоотверженность ни к чему. "Право. Что это мы с вами?" - холодно роняет она, и тогда повисает "пауза - фатальная. Происходит в ней большая перемена. - Она под впечатлением прихода мужа, под впечатлением] излишней заботы Ракитина - решила действовать сама, без посторонней помощи. Ракитина надо поставить на свое место хор[ошего] знакомого - не больше. Посредников - Ракитиных ей не надо. Ракитин понял, что он теряет ее навсегда... Сразу выросла барыня - этикетная, кот[орая] сама умеет выбраться из положения... Дело дошло до грубого оскорбления ("Вы сами поднимаете бурю..."). Так велика холодность ее к Ракитину, граничащая с презрением".
Только тогда у Ракитина прорывается, наконец, чувство большой незаслуженной обиды: "Вы меня терзаете", - говорит он, и в этих словах - "большая боль - не знает, как освободиться от нее, как выбраться из этого лабиринта путаницы и мучения". Разрыв свершился.
Увидев "Месяц в деревне" как драму непонятого и отвергнутого душевного героизма, нравственного благородства, как драму разрыва утонченного эстетизма, Станиславский подчинил весь внешний облик спектакля преобладающей тональности образа Ракитина. Ради осуществления столь важного для него замысла он впервые приглашает в театр замечательного художника "Мира искусства" - М. Добужинского, которому были безусловно близки начинания Станиславского. Художник сразу увлекся режиссерской идеей будущего спектакля.
Великолепный знаток и тонкий поэт особых настроений эпохи 20-50-х годов прошлого столетия, которыми теперь многие увлекались, Добужинский сумел слить свою повествовательную живописную манеру с эпическими поисками режиссера. "Как я Вам уже говорил, - сообщал он Станиславскому в начальную пору работы над спектаклем, - меня привлекает уютность, провинциальность в эпохе "Месяца в деревне". Последнее время я был в иных сферах. Мои постановки исходили из примитива или лубка, но именно после них мне так хочется подобной пьесы, полной прелести, старомодности и уюта...*"
*(Музей МХАТ, архив К. С.)
""Осенившими" меня чисто декоративными идеями, - вспоминает Добужинский, - была полукруглая зала с симметрично расставленной мебелью и угловая диванная. Эта симметрия и "уравновешенность", которая так типична для интерьера русского ампира, отвечала и намерениям Станиславского в этой постановке создать атмосферу спокойствия и дать внешнюю неподвижность актерам при всей внутренней напряженности чувства и как бы пригвоздить их к местам". Художник и режиссер стремились создать "картину уютной и тихой помещичьей жизни, где в доме все места "насижены", все устойчиво и куда врывается "буря", но, когда она утихает, все остается на своем месте и жизнь опять течет по прежнему руслу*".
*(М. Добужинский. О Художественном театре. Цит. по кн.: И Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. Т. 2, стр. 186, 177.)
40-е годы XIX века предстали на сцене Художественного театра не в своей археологической точности, но в светлой дымке поэтического увядания. Тургеневская мягкая акварельная гамма, ее "застенчивый лиризм", "налет особой изящной ласковости" (Н. Эфрос) сообщали и контурам обстановки, и покрою костюмов, и тонко подобранным деталям быта характер своеобразной стилизации под старину.
Очарование декораций Добужинского таилось в том безукоризненном вкусе, в том лишенном позы и рисовки естественном аристократизме, какой был разлит во всей атмосфере спектакля. "Когда на генеральной репетиции (9 декабря 1909 года. - М. С.) занавес открыл угловую комнату третьего акта, - зал дрожал от рукоплесканий. А проще, скромней этой комнаты ничего не придумаешь. Зеленые с серебром обои, два зеркала в овальных черных рамах, диван во всю стену с знакомыми линялыми вышивками "крестиком" букетами, два кресла, - вот почти все. И это было так гармонично прекрасно...*"
*(Сергей Яблоновский [С. Потресов]. Художественный театр. "Месяц в деревне". - "Русское слово", 10 декабря 1909 г.)
"Главная и громадная прелесть спектакля, - писал Н. Эфрос, - ...в том, что были в нем полно и внятно выражены тургеневская тихая нежность, его скромная, задумчивая красота. Все театральные средства соединились в стройной и строгой гармонии, в спокойной художественной уравновешенности и великолепно передали то, что - стиль Тургенева, что - душа и лучшая поэтическая сущность его творчества*". Так Тургенев возвращал режиссеру утерянную гармонию. Мирискуснический культ красоты прошлого терял здесь свою созерцательность, соприкасаясь с глубоко современной и вечной мелодией защиты человеческого достоинства. Стилизованный быт ушедшей эпохи наполнялся напряженным и горьким драматизмом эпохи нынешней.
*(Н. Эфрос. Тургенев в Художественном театре. - "Речь", 12 декабря 1909 г.)
Последний раз в своей истории Художественный театр с такой лирической силой воскрешал на сцене поэзию прошлого. Словно прощаясь с ней и не желая расстаться, он как будто говорил своим зрителям: нет, посмотрите, все-таки есть в этом уходящем и гибнущем нечто такое, что неподвластно времени, что навсегда сохранит в себе черты душевного благородства истинной русской культуры. В таком любовании стариной не было ни грана холодного стилизаторства, скорее боль, растерянность, поиски спасения и страстная потребность лучших людей русского искусства сберечь дорогое, сохранить для будущего неумирающие этические и эстетические ценности. В страшном, разорванном противоречиями, "неуютном" мире современности театр настойчиво искал пристанища для светлой, изящной гармонии, неумирающей человечности и "красоты внутреннего мира человека*".
*(Дий Одинокий [Н. В. Туркин]. "Месяц в деревне" на сцене Художественного театра. - "Голос Москвы", 10 декабря 1909 г.)
Конечно, люди театра чувствовали, не могли не чувствовать тщетность своих попыток сберечь нетронутым "эпический покой" безмятежного существования. Но и "бурю, всколыхнувшую тихие воды" Затишья,, они показывали "сквозь дымку... тургеневской грусти*". Даже в самые напряженные мгновения тут просто неуместна была резкая динамика,, громкие голоса, открытые жесты. "Сдержанные, чтобы не сказать застывшие, манеры; почти полное отсутствие реакции на внешние впечатления; легкое изменение в лице при получении самых тяжелых ударов**", "голос не возвышается выше средней силы", "деревенская простота не исключает необходимости строгих туалетов, перчаток, модных зонтиков..."
*(Цит. выше статья Н. Эфроса.)
**(И. [И. Н. Игнатов]. "Месяц в деревне". Художественный театр. - "Русские ведомости", 11 декабря 1909 г.)
Весь этот стиль спектакля, вся его духовная сущность с наибольшим совершенством воплотились в образе Ракитина. "Какой он сдержанный! - восклицает Н. Эфрос - Г. Станиславский играет его даже почти без жестов, на очень немногих матовых нотах. Это так идет Ракитину, эстету, изысканному во всем, в чувстве и слове, красиво-усталому и снисходительно-пренебрежительному к жизни*". Рецензенты подмечают у него сходство то с молодым Тургеневым, то с Мюссе, находят, что он "напрасно грассирует" и слегка поругивают художника и актера за то, что у них русский помещик у себя в деревне одет "совершенно так же, как французы на гулянье в Булонском лесу". Но все-таки не могут не признать, что у Станиславского "отлично схвачена и передана "блажная" ракитинская душа, добрая, разварная и слоняющаяся. Несмотря на внешний парижский дендизм, в нем все время чувствовалась русская подоплека, и образ этот следует считать самым удачным во всей постановке".
*(Цит. выше статья Н. Эфроса.)
Правда, критик Ю. Беляев, которому принадлежат приведенные выше слова, эту "русскую подоплеку" усмотрел лишь в намерении режиссера показать красивую, беспечную "оранжерейную" жизнь помещиков. "Были, мол, такие хорошие люди, цвели в оранжереях, построенных крепостными, в тепле, в неге, за стеклами - и это миновало, - писал он в газете "Новое время". - Нет Ракитиных, Наталий Петровн, Верочек... Романтическая оранжерея сломана, и в память о ней остались черепки пустых горшков. Из этого амольного тона постановки якобы следовало какое-то наследственное преемство к чеховской лирике, к тем приемам в постановке его пьес, которыми прославился Художественный театр*".
*(Ю. Беляев. Театральные заметки. - "Новое время", 24 апреля 1910 г.)

'Месяц в деревне', эскиз худ. М. Добужинского
Нет, не о "черепках пустых горшков" поставил свой спектакль Станиславский! Он верил и стойко продолжал говорить со сцены о том,, что духовная романтика жива. Пусть она старомодна, пусть самих Ракитиных теперь больше и нет, но живет и будет жить вечно ракитинское рыцарское благородство, ракитинская душевная деликатность и безответная терпеливая самоотверженность. И кто знает, быть может, они пригодятся в будущем человечеству не меньше, чем то, что принято называть "действительной жизнью", все то, что "сильно, настойчиво, дерзко...*" И может статься, что эти "оранжерейные" жители Затишья не будут так уж бессильны перед действительной жизнью.
*(Цит. выше статья И. Н. Игнатова.)
Художественники словно искали - и находили - свою поэзию в воспоминаниях о былой прелести усадебной жизни, еще не разоренной, свободной от тягостных материальных расчетов, от фатального напоминания, что "22-го августа - торги". В такой ретроспекции таилась тоска по "устойчивости", "постоянству", жажда "эпического покоя" (о которых и заботились Станиславский с Добужинским). Образ старой русской усадьбы - светлый, тихий и уютный - возникал на сцене МХТ как некий идеальный образ "детства человечества" - античного мира, тоже ведь покоившегося на рабстве, но зато освободившего дух человека для великого взлета культуры.
|
ПОИСК:
|
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'