
1848
1
О спектакле "Парижского тряпичника" 26 февраля 1848 года Фредерик вспоминал еще много лет спустя, как о "действительно божественном" - даже ему редко приходилось испытывать такое полное слияние актерского вдохновения с энтузиазмом зрительного зала. Этим спектаклем театр Порт Сен-Мартен отметил победу февральской революции 1848 года.
Толчком к ней стало запрещение назначенного на 24 февраля 1848 года банкета сторонников избирательной реформы. Стихийно возникшие демонстрации почти мгновенно переросли в вооруженное восстание. Уже 24 февраля Луи-Филипп бежал, подписав отречение в пользу своего внука. Революционным рабочим Парижа пришлось продолжить бой за республику. Они овладели Тюильрийским дворцом, сожгли на площади Бастилии королевский трон, ворвались на заседание палаты депутатов. 25 февраля 1848 года была, наконец, провозглашена республика.
Буйными криками радости встретил эту весть народ Парижа. Еще мостовые были разворочены, еще не успели разобрать баррикады, и впереди предстояла тяжелая борьба за основные социальные права, а город пел, бурлил, ликовал. И частью этого всенародного ликования стало бесплатное дневное представление "Парижского тряпичника". На этот первый спектакль после четырех дней боев хлынула масса участников уличных сражений, еще разгоряченных боями, воодушевленных победой.
Спектакль начался пением "Марсельезы" и "Песни отправления" Мари-Жозефа Шенье - военного гимна 1794 года, подхваченных зрительным залом.
Враги отчизны, трепещите! Пьянейте кровью, короли! Народ идет, как победитель, И не отдаст своей земли.
Республика нас призывает, - Погибнем или победим. Жить для нее француз желает, Смерть иль победа перед ним.*
* (Перевод Вс. Рождественского.)
Мощный хор голосов ворвался в спектакль, придав ему новые краски, новую силу. Феликс Пиа писал впоследствии: "За один такой день можно заплатить целой жизнью в изгнании!"
Зрители, только что пришедшие с баррикад, упоенные победой революции, принимали спектакль с энтузиазмом, дошедшим до апогея в четвертой картине первого действия, когда Жан, вернувшись в свою каморку после ночного промысла, разбирая корзину, произносил свой знаменитый монолог. Перебирая тряпье, старик насмешливо комментировал смысл своих находок и размышлял о непрочности того, что в буржуазном обществе именуется "счастьем".
"Подумать только, что весь Париж, весь свет находится вот тут, в этой плетенке... - рассуждал Жан, - рано или поздно, для всего конец в мусорной корзине!.. Любовь, слава, могущество, богатство, - все в мусорную корзинку, все отбросы, все очистки..." И он вынимал из корзины объявления о создании различных жульнических акционерных компаний - по эксплуатации золотых россыпей в Оверни и железных дорог в Перу, романы-фельетоны, любовные записки, речь при вступлении в Академию, обрывок мундира - все эти "объедки великолепных пиршеств" снова летели в корзину.
"Суета сует и всяческая суета!" - этот своеобразный вариант современного Экклезиаста давал богатейший простор для импровизации. В день торжественного спектакля Фредерик дал себе полную волю, превратив монолог в революционную сатиру. Восстановив все слова, прежде изъятые цензурой, он в конце монолога отошел от авторского текста - вынул из корзины корону и объявление с надписью "Банкеты запрещены!" и, снабдив эти символы уничтоженной монархии несколькими выразительными замечаниями, снова презрительно кинул то и другое в мусор.
По силе выражения чувств и мыслей революционного народа только одно театральное явление 1848 года может быть поставлено рядом с "Тряпичником" - "Марсельеза" в исполнении Рашели. 6 марта 1848 года на сцену театра Республики (как теперь называлась Комеди Франсез) после окончания спектакля выбежала Рашель в длинном белоснежном хитоне. Держа в руках трехцветное знамя и потрясая им, прижимая его к сердцу, бросаясь на колени, она не то пела революционный гимн, не то читала его. С чуткостью огромного художника уловив трагическую сущность надвигающихся событий, Рашель превратила "Марсельезу" в пламенный призыв к народному отмщению. Это ощутили все. А. И. Герцен писал 1 августа 1848 года: "Марсельеза" после 24 февраля была кликом радости, победы, силы, угрозы, кликом мощи и торжества... и вот Рашель спела "Марсельезу"... Ее песнь испугала; толпа вышла задавленная. Помните? - Это был погребальный звон середь ликований брака; это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния середь надежды. "Марсельеза" Рашели звала на пир крови и мести... Такая песнь могла сложиться в груди артиста только перед преступлением июньских дней, только после обмана 24 февраля".
Герцен с пророческой зоркостью вскрывает глубинный смысл "Марсельезы" Рашели. А буржуазные критики и историки либо злобно кричат о ней как о "гнусной", "зловещей" песне, которая разбивает покой нации (Жюль Жанен), либо смущенно констатируют: "Быть может, знаменитая трагическая актриса слишком далеко зашла в энергии действия и жестов; пожалуй, она напоминала скорей яростную Эвмениду, чем гения патриотизма, призывающего сограждан к защите отечества, но эффект был могучий, неотразимый" (Т. Мюре).
Рашель, с присущей ей обобщенной монументальностью, с резким лаконизмом, в едином крике выплеснула гнев народа, вздыбленность и трагизм событий, самый дух этих героических и тревожных дней.
Фредерик, выведя на сцену человека-труженика, заявил о несокрушимости народной силы, о праве народа на справедливость, о его готовности к борьбе и способности побеждать.
Другие театры тоже пытались настроиться на "февральский тон". Всюду исполняли "Марсельезу", песни, кантаты революции 1789-1794 годов и ставили "созвучные" событиям пьесы. Уже 27 февраля театр Комеди Франсез открыл свои двери, показав комедию "Аристократия", написанную республиканцем Этьеном Араго.
Через несколько дней посыпались премьеры - "Баррикады 1848 года" Бризбара и Сент-Ива на музыку Пилати и Готье в театре Национальной оперы; "Дочери свободы" Л.-Ф. Клервиля и Ж. Кордье в Жимназ; "Вильгельм Телль, или Пробуждение народа" В. Буало в Порт Сен-Мартен; "Пьеро-министр" - пантомима (автор которой скрылся за псевдонимом "Безработный пэр Франции") в Фюнамбюле и многие другие спектакли-однодневки, поставленные "на случай".
Но за исключением весьма едкого политического памфлета Фюнамбюля, где Луи-Филипп выступал под видом Робера Макэра, а прохвост и мошенник Пьеро воплощал недавнего премьер-министра Гизо, все остальные спектакли, выводя на сцену аллегорических или исторических персонажей, призывали к классовому миру, пытались убедить зрителей, что февральская революция принесла Франции полное благополучие и теперь остается только петь и плясать, наслаждаясь безмятежным счастьем.
Народ Парижа, который, напрягая все силы, пытался отстоять демократические права и прежде всего право на труд, просто и ясно высказал свое отношение к льющемуся со сцены потоку демагогической лжи - он перестал ходить в театры. Очень быстро материальное положение театров стало настолько катастрофическим, что правительству пришлось специально заняться этим вопросом и выделить 500 тысяч франков субсидии.
И только в те вечера, когда на сцену театра Республики выбегала со знаменем в руках Рашель, а в Порт Сен-Мартен, сгибаясь под тяжестью корзины, выходил на подмостки старый папаша Жан, их приветствовал переполненный зрительный зал. Идя сюда, народ знал, что здесь его встретят не фальшивым краснобайством, а мужественной правдой революционного искусства.
"Парижский тряпичник" в исполнении Фредерика и "Марсельеза" в исполнении Рашели стали для зрителей непосредственным сценическим воплощением революции 1848 года.
2
Поскольку цензура была устранена, уже через месяц Порт Сен-Мартен возобновил "Постоялый двор Адре" и "Робера Макэра". Фредерик пытался сопротивляться - ему решительно не хотелось снова становиться "фарсером". "Начиная с "Рюи Блаза" и "Кипа" я совершенно отказался от всех эпитетов, связанных с Макэром", - писал он директору Порт Сен-Мартен Ипполиту Коньяру. Но Коньяр уговорил его, а начав работать, Фредерик увлекся. Он готовил нового Бертрана - его играл теперь актер Перрен. Он вносил поправки в пьесы. Убрав из "Постоялого двора" убийство, Фредерик тем самым удалил привкус аморализма и снял ненужный налет детектива; он обличал не профессиональных бандитов, а мошенников и аферистов повыше рангом. Зрители 1848 года ясно видели сатирическую мишень - слишком свежи были в памяти скандальные разоблачения финансовых махинаций министров Июльской монархии. Актер мог не опасаться, что его создание потеряет злободневность.
Обе пьесы шли два вечера подряд, для подавляющего большинства зрителей став сенсационной новинкой - ведь прошло тринадцать лет с тех пор, как сентябрьские законы 1835 года прикончили Робера Макэра.
В эти первые послереволюционные месяцы в общественную деятельность стихийно были втянуты и широкие круги художественной интеллигенции.
Каждый день приносил поражающие вести. Революция ширилась, охватив не только всю Францию, но почти всю Европу. Под нажимом масс удалось добиться некоторых симптомов демократизации общественной жизни, в том числе свободы собраний и союзов. Открывались политические клубы, вспыхивали стихийные митинги.
Лихорадочная атмосфера всеобщего социального действия захлестнула и актеров. Фредерик, встреченный аплодисментами общего собрания драматических артистов Парижа (происходившего в огромном зале Национальной Оперы), был избран делегатом в Комиссию по распределению правительственной субсидии театрам. Он вошел в Республиканский клуб актеров, стал вместе с Дюма, Пиа, Галеви, Скрибом и Обером одним из вице-президентов Драматического конгресса, президентом которого согласился стать Гюго.
Все эти начинания принесли мало результатов - слишком разнились интересы привилегированных и демократических театров, социальная их дифференциация становилась все более очевидной по мере приближения к роковым июньским дням. К тому же незначительная правительственная дотация не могла спасти положения.
Фредерик, с его ярким общественным темпераментом, "был Дантоном этих маленьких парламентов" (Леконт). Он получил здесь открытую трибуну для продолжения борьбы за права актера против произвола, невежества, бездарности антрепренеров, которую он вел в течение всей своей жизни.
Тогда же он пришел к мысли о необходимости организационной перестройки театра. В марте 1848 года, накануне банкротства одного из очередных директоров Порт Сен-Мартен, Фредерик собрал у себя основных актеров труппы и предложил им создать артистическое паевое товарищество. Проект этот не был реализован. Но любопытно, что принцип, предложенный Фредериком, предвосхищал театрально-организационные искания Парижской коммуны, которая, чтобы вырвать театры из рук дельцов - коммерсантов, стремилась создавать актерские ассоциации, арендующие театры и руководящие их работой.
Творчество Фредерика после революции 1848 года в еще большей степени, чем раньше, тормозилось отсутствием репертуара. Французская драматургия не создала ни одной пьесы, передающей величие и трагизм событий. Безрепертуарье толкнуло Фредерика к "буффонной драме" "Трагальдабас" молодого поэта Огюста Вакери, ученика, друга и горячего последователя Гюго. Пьеса была написана еще в 1846 году, и Фредерик, при всем своем недовольстве титулом "фарсера", ощутил в ней то, что всегда оставалось мило его сердцу, - черты антибуржуазной сатиры, изрядную долю эксцентрики, насмешливый вызов мещанской морали.
Вакери стремился воплотить образ "среднего" человека буржуазного мира, человека со стершейся моралью, без сердцевины, вечного искателя легкой жизни и вечного неудачника, нечто вроде французского Пер Гюнта. Но автор увлекся фантастической Испанией неведомой эпохи и сплетением невероятных событий. Фабульная путаница вытеснила философию. В другое время забавные ситуации и причудливый сюжет могли рассмешить и даже заинтересовать. Пьеса не лишена талантливости и юмора. Но уж очень она пришлась не ко времени.
Репетиции "Трагальдабаса" совпали с трагическими днями французской истории. Буржуазия принудила пролетариат к июньскому восстанию - писал Маркс. "У рабочих не было выбора: они должны были или умереть с голоду, или начать борьбу. Они ответили 22 июня грандиозным восстанием - первой великой битвой между обоими классами, на которые распадается современное общество".*
* (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 29.)
Разгром июньского восстания и страшная жестокость его подавления стали сигналом наступления европейской контрреволюции.
И вот в эти-то мучительные дни, 25 июля 1848 года, состоялась премьера "Трагальдабаса". На спектакле присутствовал почти весь литературный мир Парижа, во главе с Гюго, Бальзаком, Жорж Санд, Готье, Дюма-отцом. Пришли и писатели, известные своими демократическими симпатиями, - Пиа, Альфонс Карр, Леон Гозлан, Жюль Шамфлери, и литературная молодежь - сыновья Гюго Шарль и Франсуа, Поль Мерис, Мюрже и многие другие. Для них пьеса близкого друга Гюго и премьера Фредерика были свидетельством бессмертия народной культуры Франции, и они делали все, что было в их силах, чтобы поддержать пьесу. Но спасти ее от свистков не удалось, хотя, по общему признанию, Фредерик во многих сценах достигал поистине мольеровского сочетания гротескной комедийности и своеобразной логики внутренней жизни. Соединяя остроту рисунка "с самыми верными наблюдениями и чудесной естественностью" (Готье), он создавал характер человека без царя в голове, прощелыгу, гоняющегося за подачкой, лишенного принципов и высоких целей.
"Нигде, даже в "Робере Макэре", у него не было более ошеломляющего остроумия, более сверкающей буффонады, - писал О. Вакери, рассказывая о бурной премьере. - Он был молнией этой грозы! Слава богу, провал касался только автора. Как меня освистали все эти господа! Но как аплодировали Фредерику Гюго и Бальзак!"
Но даже Фредерику не удалось преодолеть идейную неопределенность пьесы. Зрители, по-видимому, так и не поняли, что хотел сказать им автор пьесы, премьера которой пришлась на траурные и позорные дни французской истории.
Фредерик не мог не ощущать рокового несоответствия между настроением зрительного зала и самодовлеющей буффонадой спектакля, так и не ставшего сатирически целеустремленным. Пытаясь усилить содержательность, актер шел на рискованные приемы. В финале Трагальдабас, оставшись без покровителя, вступает в труппу бродячих циркачей: у них издох ученый осел, и Трагальдабас, накинув шкуру осла, будет теперь играть его роль. К этому времени вихрь свистков бушевал в полную силу. Перекрывая шум, Фредерик с едкой иронией бросил в зрительный зал:
...Скольких людей мы видим, Пьющих вино, разгуливающих без палки на двух ногах, Сутяг, дерущихся на дуэли из-за пустяков, Освистывающих стихи, лжецов, воров, продающих своих дочерей, И ведущих жизнь цивилизованных людей, Хотя они явно переодетые ослы!
Эта филиппика вызвала ураганный шквал свистков и криков, не прекращавшихся минут пятнадцать. Чтобы пресечь скандал, Фредерик в ослиной шкуре, "соскочив с тележки акробатов... подошел к рампе и сделал знак, что хочет сказать несколько слов. Приветствуя зал тремя поклонами, которым вторила ослиная голова, артист обратился к зрителям с речью: "Граждане, актер обязан выполнить свой долг; он не должен покидать своего автора. Но как выполнить эту задачу посреди подобной бури? Как мне сохранить хладнокровие при виде знаков одобрения, которыми вы осыпаете меня? (Смех и ироническое "браво".) Граждане и господа, заинтересованные, а также и незаинтересованные, вот подходящий момент объединиться, чтобы вместе крикнуть: "Да здравствует Республика!" (Леконт)
Это восклицание до такой степени ошарашило публику, что она дала возможность Фредерику вернуться на тележку, договорить последние слова пьесы и, но обычаю, назвать имя автора. Скандальный спектакль неожиданно закончился дружными аплодисментами - по-видимому, часть зрителей не разобралась в происходящем и просто приветствовала любимого актера, а другие, быть может, аплодировали смелости актера, который от имени ученого осла славил "республику", обагренную кровью июньских жертв.
Так или иначе, опасаясь расширения скандала, братья Коньяр предпочли снять пьесу с репертуара, хотя она была сыграна всего тринадцать раз.
3
После февральской революции был момент, когда в Комеди Франсез внезапно осознали, что им необходим Фредерик-Леметр. Спустя много лет Ф. Пиа писал Леконту, что вскоре после 24 февраля 1848 года ему предложили поставить в Комеди Франсез три его пьесы - "Тряпичника", "Диогена" и еще не написанного "Врача Нерона" с условием, что он уговорит Фредерика вступить в труппу Комеди Франсез, соблазнив его перспективой в двух последних пьесах играть с Рашель. Но послеиюньская реакция быстро заставила пересмотреть это решение - Пиа показался слишком "левым", Фредерик чрезмерно демократичным. "Лохмотья" тряпичника или Диогена снова стали неуместными на сцене, привыкшей к пурпуру.
В конце 1849 года новый директор Комеди Франсез Арсен Уссе сделал еще одну попытку. В своей книге "Исповеди" он пишет: "Еще была возможность осветить театр Комеди Франсез великой фигурой Фредерика. Я побежал к нему. Фредерик обнял меня, когда я сказал, что он будет играть "Тартюфа"...". Но он только что подписал контракт с Порт Сен-Мартен на ряд спектаклей и мог освободиться не раньше, чем через три месяца. А за эти месяцы сосьетеры напомнили директору, что без согласия избранного из их среды комитета он не имеет права приглашать актеров, да еще такого масштаба. Комитет же решительно восстал против вступления Фредерика в труппу.
Все эти переговоры волновали, раздражали, а между тем надо было решать основные репертуарные вопросы.
Напряженность политического момента требовала прямой открытой гражданственности - не эксцентрики, а патетики, не балагана, а героики. Леметр вел переписку с Пиа, который обещал ему свою новую пьесу "Врач Нерона". Но занятый политической деятельностью, Пиа не закончил пьесу, а в середине 1849 года ему пришлось бежать из Франции. Лишь весной 1850 года Фредерик сыграл главную роль в драме А. де Ламартина "Туссен Лувертюр" (Порт Сен-Мартен). Пьеса была написана Ламартином еще десять лет назад. В годы Июльской монархии прежний певец Реставрации и католицизма переменил политическую ориентацию и стал одним из столпов буржуазного либерализма. Тема освобождения негров играла немалую роль в той филантропической проповеди всеобщего братства, которой подчинены в эти годы и поэзия, и публицистика Ламартина. Внимание Ламартина привлёк Туссен Лувертюр - поразительно яркая и трагическая фигура недавнего прошлого. Этот талантливый и мужественный человек, одаренный истинным гением полководца, стал народным вождем негров французской колонии Гаити, когда они подняли восстание в 1791 году. Как только якобинский Конвент провозгласил отмену рабства (1794), Туссен Лувертюр всем сердцем приветствовал французскую революцию. Он очень много сделал для Франции, разбив англичан, пытавшихся захватить Сан-Доминго, и испанцев, которые, занимая восточную окраину острова, стремились овладеть его французской частью. Но Наполеон, став первым консулом, обманул ожидания гаитян, отменил ранее данную им конституцию и послал французские войска для оккупации острова и восстановления рабства. Туссен Лувертюр вновь встал в 1802 году во главе народа, сражающегося за свою свободу. Однако французы обманом завлекли Лувертюра в западню, арестовали его и отправили во Францию, где он умер через год в крепости Жу. Жизнь Туссена Лувертюра действительно могла бы дать материал для пьесы большого политического накала. Каждый факт этой потрясающей по драматизму биографии прославлял революцию, давшую свободу угнетенному народу Гаити, и обвинял буржуазную реакцию, которая демагогией, предательством, насилием уничтожила завоевания революции.

Фредерик-Леметр в роли Туссена Лувертюра. 'Туссен Лувертюр' А. де Ламартина
Ламартин мало использовал подлинный драматизм истории. В пьесе, как и в политической деятельности Ламартина, больше "фейерверка" (К. Маркс), чем сущности. Вместо политической трагедии получилась сентиментальная мелодрама. Туссен Лувертюр представлен в ней, главным образом, как отец, в душе которого патриотический долг сталкивается с любовью к сыновьям, находящимся в качестве заложников в руках французов. А в сюжете центральное место занимает история тайной любви племянницы Лувертюра Адриенны к его сыну Альберу. При всем поэтическом мастерстве, пьеса растянута, перенасыщена огромными монологами. Меланхолическая поэзия Ламартина либо убивала действенность, либо сочеталась в отдельных сценах с приключенчески-авантюрным внешним действием, самого что ни на есть мелодраматического, "бульварного" пошиба.
Показывая революцию, Ламартин в то же время предпочитал ускользнуть от ее реального содержания. Ламартин-драматург и Ламартин - глава Временного правительства очень схожи: и в том, и в другом энтузиазм восстания был перемешан со страхом перед революционным народом.
Декрет об освобождении негров во французских колониях, подписанный Временным правительством 27 апреля 1848 года, был самой славной страницей политической биографии Ламартина. Этим он по праву мог гордиться. Вот почему, вынужденный после разгрома июньского восстания уйти в отставку, Ламартин вспомнил о своей давно написанной и затерянной драме. Возможность издать и поставить пьесу сохраняла иллюзию политической активности.
Фредерик, в прежние годы сотрудничавший с Гюго и Бальзаком, теперь стал консультантом Ламартина. Он подсказывал ему сокращения, приемы усиления действенности, уговорил кое-где убрать чрезмерно мелодраматические сцены. Но пьеса так и осталась скорей любовно-психологической, чем политической.
Однако есть в пьесе несколько сцен, давших возможность Фредерику проявить "воодушевление, вдохновение и смелость" (Т. де Банвиль), - то тяжкие раздумья Туссена о возложенной на его плечи ответственности за судьбу народа, то страстный монолог о любви к родине, то эффектная сцена, где Туссен, переодетый нищим слепцом, пробирается в стан врагов и застает здесь одного из своих военачальников, продающего французам планы гаитян. "Слепец" бросался на предателя, убивал его ударом ножа, а затем вскакивал на скалу, прыгал в волны и уплывал, осыпаемый проклятиями и пулями. Огромное впечатление производила сцена, где с дикой энергией Туссен подбодрял своих солдат и, чтобы освободить их от внушенной им идеи расовой неполноценности, рассказывал притчу о тигре, который сожрал на кладбище черного и белого, оставив два одинаковых скелета. И, наконец, пьесу венчала картина, в которой, выхватывая из рук сраженной французской пулей Адриенны черное знамя восстания, Туссен кричит: "К оружию!" - и негры бросаются на врагов.
Сам Ламартин говорил: "Великий актер скрыл под великолепием своего гения несовершенство пьесы".
Фредерик, руководя репетициями, сделал все возможное, чтобы усилить политическое звучание спектакля. Туссен Лувертюр в его исполнении был полон такой внутренней силы, что, по словам Т. де Банвиля, казался "титаном, который вырывал горы из земли и нагромождал их одну на другую, чтобы сделать из них лестницу на небо". "Тальма чернокожих, Тальма тропиков", - называл его Ламартин в предисловии к пьесе - "...такой же великий властелин, но с характером более трогательным и более взрывчатым... О Фредерике-Леметре публика может сказать то, что говорили о Туссене: "в этом человеке - целая нация!" "Принужденный произносить каждое мгновение речи и монологи, нескончаемые в чьих-либо других устах, он одушевил эту непрерывную поэзию невероятным разнообразием", - вспоминал О. Вакери.
Играя народного вожака, борца за свободу, Фредерик захватывал зрителей величием, огромной человеческой талантливостью, силой любви, наполнявшей душу его героя. В пьесе Ламартина Фредерик стремился создать образ шекспировского масштаба, гиганта, сочетающего "великие природные инстинкты с великой социальной миссией" (О. Вакери).
Правда, это был скорей успех уважения, чем истинная художественная победа. Фредерик не мог быть до конца самим собой в ролях, где его сковывали декламация и декоративность. И все же неудача "Трагальдабаса" и полуудача "Туссена Лувертюра", так же как и возобновления "Парижского тряпичника", "Сезара де Базана", "Рюи Блаза" (который снова стал крупным театральным событием), говорили об идейной стойкости актера.
4
Проблема репертуара становилась для Фредерика все более трагически неразрешимой.
В обстановке политического террора, ссылок без суда, военных трибуналов, диктатуры Луи-Бонапарта, уже ставшего 20 декабря 1848 года президентом Франции, политическая тема оказалась для театра либо полностью запретной, либо принимала спекулятивно-демагогическое и контрреволюционное звучание. Фредерик не мог играть в политически беспринципных пьесах, типа драмы А. Дюма "Катилина". Классовая борьба 1848 года, завершившаяся июньскими зверствами генерала Кавеньяка, была использована Дюма как выигрышный материал для создания доходного сценического зрелища. В кровавых событиях недавнего прошлого он увидел лишь столкновение политических честолюбцев, подстрекающих народ к восстанию, и утверждал неизбежность краха любого выступления народа. С отвращением вспоминал об этом спектакле Герцен: "Форты были набиты колодниками... родные бродили из полиции в полицию, как тени, умоляя, чтобы им сказали, кто убит и кто остался, кто расстрелян, а А. Дюма уже выводил июньские дни в римской латиклаве* на сцене... Я пошел взглянуть. Сначала ничего. Ледрю-Роллен - Катилина и Марк-Туллий - Ламартин, классические сентенции с риторической опухолью. Восстание побеждено... декорации меняются. Площадь покрыта трупами, издали зарево, умирающие в судорогах смерти лежат между мертвыми, умершие покрыты окровавленными рубищами... У меня сперся дух. Давно ли за стенами этого балагана, на улицах, ведущих к нему, мы видели то же самое, и трупы были не картонные, а кровь струилась не из воды с сандалом, а из живых, молодых жил?.. Я бросился вон... проклиная бешено аплодировавших мещан..."
* (Латиклава - одежда римских сенаторов.)
Воинствующая реакция проявилась в ряде контрреволюционных драматургических памфлетов, вроде "Собственность - это воровство" (театр Водевиль). Авторы этого сомнительного шедевра, недавно прославлявшие февральскую революцию, Клервиль и Кордье, определили жанр своей пьесы как "социалистическое безумие в трех действиях". И в других театрах шли контрреволюционные и антиреспубликанские пьесы - "Пляска экю", "Хамелеон", "Ярмарка идей". Идеологическое наступление "партии порядка" проявлялось планомерно и во всех направлениях. Фредерик видел это наступление, понимал, к чему оно ведет. Настроение становилось все более тревожным, творческие перспективы все более неясными. Республиканские иллюзии таяли с каждым днем.
Бесперспективность наивного республиканизма ясно выявилась в истории недолгого директорства Бокажа. Еще до революции Бокаж некоторое время был директором Одеона. В апреле 1849 года он вновь занял этот пост и горячо принялся за дело, все еще веря, даже после кровавых июньских дней, что республиканский строй сам по себе - панацея от всех социальных бедствий. В своем театре он хотел создавать боевое, республиканское искусство. А между тем республика доживала последние дни.
Бокаж в одиночку пытался бороться с приближающимся бонапартистским переворотом. 10 февраля 1850 года он поставил в Одеоне написанную по его заказу пьесу Боскийона "Белая ночь", пророчески предсказывающую опасность гибели республики. Пьеса была основана на свежих исторических фактах - президент негритянской республики Таити Сулук в 1849 году совершил государственный переворот и провозгласил себя императором. Весть об этом дошла до Парижа, и бойкие на язык парижане уже втихомолку называли Луи-Бонапарта "французским Сулуком". Пьеса о Сулуке воспринималась как предупреждение, как сигнал тревоги. Естественно, что на следующий же день крамольный спектакль запретили.
Вскоре Бокажу пришлось вступить в острые переговоры с префектом полиции по поводу пьесы Густава Ваэза "Ремесленники". Историческая пьеса, показывающая борьбу бельгийского народа против австрийцев, вызывала злободневные ассоциации. В ней звучали слова о свободе и равенстве, народ поднимал восстание против тиранов. И каждый спектакль по требованию зрителей кончался пением "Марсельезы", которую подхватывал зал. Никого не смущало, что события пьесы происходили за сотни лет до создания революционного гимна французского народа. Префект полиции потребовал, чтобы Бокаж убрал "Марсельезу", и вычеркнул из пьесы особенно "опасные" реплики и сцены. Он отказался сделать это.
Ко всем "грехам" Бокажа присоединилась и раздача некоторого количества бесплатных билетов в рабочих предместьях. Чтобы скрыть этот запретный для субсидируемого правительством театра маневр, Бокаж в своих финансовых отчетах называл пропуска "семейными билетами", будто бы розданными его многочисленным родственникам. Министерство, разумеется, расследовало истинную подоплеку дела, что навлекло на Бокажа выговоры и начальственное негодование. Тучи еще больше сгустились, когда 4 мая 1850 года, вопреки запрещению министра, Бокаж организовал в Одеоне бесплатное представление в честь годовщины республики. Буржуазная республика готовилась породить империю и предпочитала стыдливо умалчивать о факте собственного существования. Что ж удивительного в том, что Бокажа оштрафовали на две тысячи франков за то, что он осмелился отпраздновать рождение республики!
Кончилось все это грустно - 27 июля Бокаж был смещен с должности. Приказ о снятии его с поста директора прямо указывал, что в выборе пьес и в административных решениях Бокажем руководили враждебные правительству настроения и что он использовал в политических целях возможности, которые ему давало положение директора театра, получающего государственную дотацию.
Открытым методом бороться против бонапартистского террора оказалось невозможным. Для Бокажа, как и для Фредерика оставался один выход - играть пьесы демократической направленности, находить родники человечности в людях труда, в их нравственной чистоте, в их духовном превосходстве. В своих исканиях ветераны романтического театра сближались с величайшими художниками-реалистами - О. Домье, Г. Курбе, Ф. Д. Милле. Но актеров этот путь неизбежно приводил к мелодраме - никакой иной демократической драматургии во Франции просто не существовало. Фредерик в эти годы еще теснее сблизился с Деннери.
9 ноября 1850 года Фредерик сыграл в драме Деннери и Марка Фурнье "Паяц" (театр Гетэ) роль бродячего клоуна и акробата Гильома Бельфегора. Еще до премьеры газеты окружили готовящийся спектакль вихрем сплетен и догадок. Среди всего прочего рассказывали, что, работая над ролью паяца, Фредерик пошел в театр Фюнамбюль, чтобы уточнить какую-то деталь. Встреченный овацией актеров и зрителей, он тут же обменялся костюмом с одним из актеров и выступил с импровизированной клоунадой. Возможно, что и так: достоверность образа, точность жизненных наблюдений в "Паяце" приобретали для Фредерика особое значение.
Появление семейства Бельфегор на сельской площади сопровождалось настоящим ярмарочным парадом. Фредерик - Паяц, вместе со своей женой Мадленой, одиннадцатилетним сыном Анри (выступающим под именем Жакине), маленькой дочкой, помощником и тремя музыкантами начинал сцену под грохот литавр и труб, зазывая публику на представление:
Бельфегор. Крестьяне и крестьянки! С разрешения г-на префекта, г-на мэра и г-на полевого стража... Приветствуйте, г-н Жакине!
Анри (ударяя в литавры, кричит пронзительным голосом). Да, хозяин!
Бельфегор. С соизволения всех этих уважаемых властей мы будем иметь честь исполнить перед вами неподражаемые номера!.. Номера, исполненные грации, элегантности и ловкости; чудеснейшие упражнения, вызвавшие восхищение всех иностранных дворов... Приветствуйте, г-н Жакине!
Анри (также пронзительно). Да, хозяин!
Бельфегор. Упражнения, которые привели в восторг всех монархов... и ради которых мы приглашены в настоящее время к императору Марокко. Но, узнав, что сегодня здесь состоится сельский праздник, мы пренебрегли марокканцами для любезных обитателей общины Ландреси. Приветствуйте еще раз, г-н Жакине!
Анри. Да, хозяин!
Бельфегор. Мы покажем вам сеансы чревовещания, некромантии, хиромантии, картомантии, иначе говоря, гадания! Мы предскажем всем молодым девушкам год, месяц, неделю, день, час, минуту их будущей свадьбы... Но вы спросите у меня - кто ты такой? Кто я? Паяц! Паяц от деда до внука! Моего предка звали Бельфегор I, он пожирал перочинные ножички, ножи, ножницы и бритвы! Мой отец глотал шпаги, сабли и штыки! Я, Бельфегор III, заглатываю карабины и барабаны (подбрасывая Анри, в воздух), а Жакине, мой сын, истребит когда-нибудь изрядное количество... пушек!!!
Анри. Да, папа!
В сценах подобного рода Фредерик упоенно и самозабвенно пускался в клоунаду, воскрешая древнюю традицию народных зрелищ. Он не занимался стилизацией. Его творческая юность недаром была связана с бульваром Тампль, с театрами Варьете-Амюзант, Фюнамбюль, Олимпийским цирком. Он с детства слышал хриплые голоса зазывал и знал, что такое нищета бродячих акробатов. Он показывал не нарядного, изысканно эстетского Паяца, а площадного фигляра, голос которого осип то ли от водки, то ли от вечной простуды, и весь реквизит которого кричал о бедности, скитаниях, бесприютной жизни. Готье рассказывает о тщательности Фредерика в отборе выразительных деталей - о битой посуде, разорванном ковре для акробатических упражнений, о старых, грязных, потрепанных костюмах, о козлах с отломанной ножкой, на которые клали доску, устраивая стол.
Сюжетная схема "Паяца" близка "Мари-Жанне", "Парижскому тряпичнику" и многим другим социальным мелодрамам. В основе каждой из этих пьес лежит, по существу, глубоко жизненная коллизия, хотя и расцвеченная филантропическим прекраснодушием и сентиментальной фантазией драматурга. Бедняк вынужден защищать свою семью, свою любовь и даже свою жизнь от богатых, облеченных властью врагов.
Действие "Паяца" целиком посвящено борьбе добродушного силача, паяца Бельфегора против аристократов, пытающихся отнять у него все, что ему дорого.
Паяц Фредерика был настоящим ярмарочным фигляром, сохранившим чуть ли не средневековые навыки этой древней человеческой профессии. Но так же, как в "Парижском тряпичнике", подлинность облика, манер, речи, профессиональных ухваток оказывались не самоцелью, а средством для раскрытия контраста между грубой внешностью и душевной чистотой Гильома Бельфегора. "У себя дома Фредерик сбрасывает одежду паяца, и любитель попоек становится отцом. Бедная женщина, как он любит ее! Бедные дети, он готов отдать за них жизнь!" - писал Готье.
У Бельфегора нет ни денег, ни дома. Но он счастлив: "Нас четверо, - разъясняет он, - значит, у каждого из нас есть трое любимых..." Даже бродячая жизнь для Бельфегора источник радости: "Мы похожи на птиц, которые улетают, когда холод... гонит их... А поскольку мы выбираем праздничные дни, в каждой деревне, всюду, куда мы приезжаем, нас встречают только радостные лица и праздничные наряды".
Но этого веселого философа ждет большое горе. Замысловатая интрига пьесы строится на том, что авантюрист Лаваренн, выступающий под именем убитого им дворянина, шевалье де Роллака, узнает в жене бродячего циркача внучку герцога де Монбазона, оставленную во время революции на попечение бедного поденщика. Сначала весть о возможном богатстве радует Мадлену и Гильома - их дети будут избавлены от нужды. Но вскоре выясняется, что знатная семья требует развода Мадлены. Лаваренн, рассчитывающий сам захватить богатое приданое Мадлены, упорно стремится разлучить ее с мужем. Она должна быть представлена высшему свету как вдова дворянина.
Надо отдать справедливость авторам - они умели подбросить реплики, которые посредственному актеру не дали бы ничего, кроме дешевой чувствительности, но такой актер, как Фредерик, находил в них акценты жгучей боли, оскорбленного человеческого достоинства.
"Жена, уведи детей, они еще не научились стыдиться своего отца!" - бросал Фредерик и со сдержанным гневом выслушивал заявление, что Мадлене разрешено взять с собой и, следовательно, приобщить к знати только одного ребенка. Лаваренн-Роллак сообщает, что о судьбе второго ребенка позаботятся.
Бельфегор (холодно). А муж? Мы еще не выяснили, как будет с мужем?
Роллак. Каковы бы ни были ваши претензии, их удовлетворят; вы сами, дорогой мой, назначите сумму.
Бельфегор (взрываясь). Сумму!.. значит, дело в деньгах! Замолчите, замолчите, сударь, нельзя при свете дня и перед лицом бога предлагать мужу продать жену и детей!
С этого момента начиналась борьба - неравная борьба, где на стороне притеснителей закон, деньги, моральная беззастенчивость, а на стороне бедного паяца - только любовь и мужество. Семья паяца спасается бегством. Чем больше пугает Бельфегора мысль, что Мадлена может пожалеть об утраченном ею мире роскоши и безделья, тем больше он старается облегчить и украсить ее жизнь. Но заболевает их маленькая дочь. Тайком от Бельфегора Мадлена зовет врача и узнает от него, что девочке угрожает смерть, ей нужен уход, питание, дорогостоящее лечение. Обезумевшая от горя мать, чтобы спасти ребенка, дает себя уговорить вновь разыскавшему их Роллаку и убегает из мансарды Бельфегора к своим знатным родственникам.
Сцена, где Бельфегор возвращается домой с подарками для жены и дочери, поразила современников. Только что Бельфегор был счастлив, предвкушая радость Мадлены и маленькой Жанны. Он истратил на покупки свои тайные сбережения - несколько франков. Вместе с сыном он забавляется, как ребенок, готовя сюрприз. Тихонько, сдерживая смех, они устраивают выставку подарков: лакомства и игрушки для малышки, шаль за десять франков для матери. Гильом любуется шалью, искренне считая ее верхом роскоши. "Мы вам покажем, есть ли у нас вкус! Голубое, и красное, и зеленое - все цвета радуги!" - как красива будет в этой шали его Мадлена, как она обрадуется подарку!
И вот, наконец, все готово, Анри бежит за матерью и сестренкой, но возвращается испуганный - комната пуста, шкаф открыт, все в беспорядке. Смеясь над мальчиком, Бельфегор сам идет в комнату. Оттуда он возвращается через мгновенье, держа в руках записку жены. Этот момент отмечают все, писавшие о спектакле, и все говорят о необычайной простоте Фредерика, о чувстве меры, сдержанности, "истинности страстей". Ничего внешнего, только нестерпимая внутренняя боль: "Никаких усилий, ни крика, ни жеста. Но оцепенение лица... поток слез, сникшее тело... отчаянная маска такого страшного горя, - никто, кроме этого актера, лучшего актера своего времени, не смог бы так выразить это", - пишет один из критиков. "Паяц не кричит, он обессилел, он опускается на колени и плачет, и зрительный зал плачет вместе с ним", - рассказывает Готье. "Школа Стоклея и Тотена" - актеров ранней мелодрамы - ушла в далекое прошлое. Фредерик искал теперь воздействия на зрителя только в одном - в логике и правде душевной жизни.
Пьеса предоставляла широкий простор для мелодраматических эффектов. Вместе с сыном пускался Паяц на поиски жены и дочери. Лаваренн восстанавливал против него власти, ему запрещали выступать и останавливаться в городках и деревнях. Труппа распадалась. Голодные, изнемогающие от усталости, отец и сын давали представление на маскараде перед веселящимися аристократами, и ребенок терял сознание от голода. А Бельфегор настигал злодея, нападал на него "страшный, с палкой в руке, дикий, как раненый лев". Выпытав, где скрывается Мадлена, Бельфегор отнимал у Лаваренна документы и появлялся перед семейством де Монбазои в костюме "кавалера де Роллака". "Он их мистифицирует, - пишет Готье, - он рычит, он вспыхивает гневом, презрение его беспредельно, он неистовствует, он безудержен в своей патетической, стремительной ослепительной игре, с эпиграммами на устах и бешенством в сердце". Однако и это не все. Ищут убийцу Роллака, и Паяца принимают за преступника, присуждают к смертной казни. Он протестует, зовет Мадлену. Но герцог согласен освободить Бельфегора, если Мадлена откажется от мужа. Она, чтобы спасти Бельфегора, отрекается от него и от сына. И только тогда, когда Гильом пытается кончить самоубийством, Мадлена не выдерживает, и, рыдая, объявляет истину.
Событий тут на добрый десяток пьес, и эффекты, нагроможденные один на другой, несутся лавиной. Не такой драматургии заслуживал огромный талант Фредерика. И все же, взяв пьесу Деннери, он был прав в своем выборе.
"Фредерик создал из Паяца самое широкое, самое могучее сценическое выражение семьи, - писал критик газеты "Съекль", - знаменитый актер сделал, быть может, больше в этом чудесном создании, чтобы уничтожить бессмысленные теории о разрушении семьи, придуманные больными мозгами... чем полсотни напыщенных проповедников, написавших толстые тома... Этот человек, одаренный гением сердца, выиграл вчера перед народом дело человечности!"

Фредерик-Леметр в роли дон Сезара де Базана. 'Дон Созар де Базан' Дюмануара и Деннери
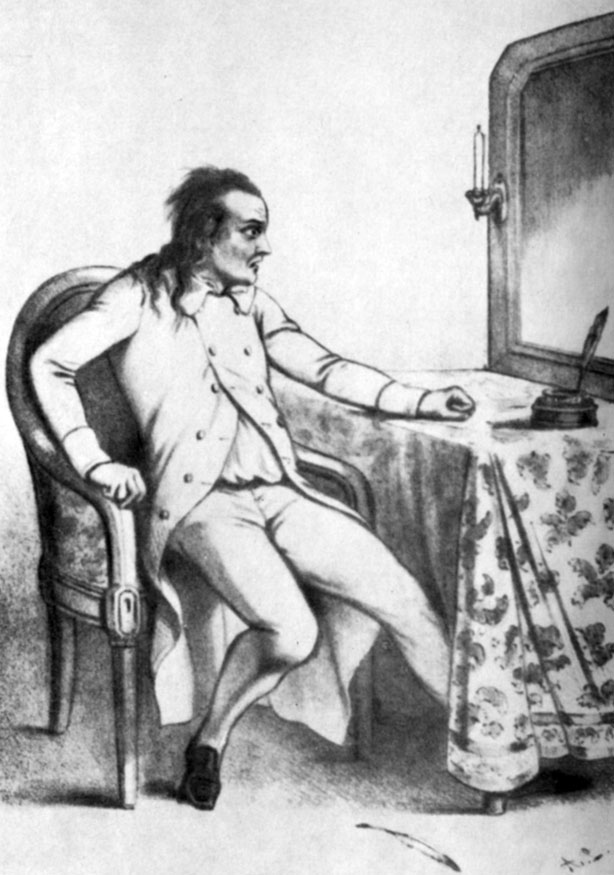
Фредерик-Леметр в роли Жака Мориса. 'Госпожа де Сент-Тропез' Анисе-Буржуа и Деннери

Карикатура на Фредерика-Леметра в роли дон Сезара де Базана
Но эти восторженные слова нуждаются в существенной оговорке. В дни, когда уже начинали звучать лозунги воинствующей буржуазной реакции: "Собственность! Семья! Религия! Порядок!" - Фредерик защищал семью и "дело человечности" совсем с иных позиций, чем Скриб, Понсар, Ожье, А. Дюма-сын. Они утверждали буржуазную мораль, буржуазную семью, в которой приданое невесты объединяется с коммерческими деловыми способностями мужа. В их пьесах высмеивались романтические страсти, не предусмотренный брачным уложением душевный порыв объявлялся безнравственным, а женщине предписывалось безоговорочное послушание сначала отцу, потом мужу, умение уложиться в бюджет, быть безгласной, покорной, рачительной хозяйкой.
Образ древнеримской добродетельной матроны, видящей главное назначение женщины в том, чтобы сидеть дома и прясть шерсть, прославил Понсар в "Лукреции" (1843). Ожье в "Габриэли" (1849) воспевал добродетельного семьянина, умного руководителя своей пустенькой жены. Мечты женщины о большом, глубоком чувстве, о цели жизни объявлялись ветреностью, вредной романтической причудой. Мещанин, утверждая мораль собственника и накопителя, наложил запрет на поэзию, на бескорыстную любовь, на мечты.
Мещанская драматургия ХIХ века всячески стремилась убедить молодых людей, что супруги должны принадлежать к одному общественному кругу, копить деньги, подходить к строительству семьи рассудительно, отнюдь не повинуясь голосу чувства.
"Паяц" Деннери и Дюмануара - далеко не литературный шедевр (как, впрочем, и драматургия Скриба, Дюма-сына, Ожье, Сарду). Но пьеса эта написана с позиций прямо противоположных пошлой морали "здравого смысла". Поступками Бельфегора и Мадлены движут чувства, чуждые расчету и выгоде. И недаром в финале, успокоившись за участь детей, Мадлена возвращается к мужу, к трудной жизни, полной лишений, но подчиненной законам любви, преданности, бескорыстия.

Сцена из драмы Деннери и Фурнье 'Паяц'. Фредерик-Леметр - Бельфегор
Разумеется, такой финал утопичен. Он потому и звучит как мелодраматическое утешительство: внучка герцога-миллионера, добровольно соединяющая свою жизнь с нищим паяцем, - это мало походило на типические обстоятельства жизни современного общества. Но буржуазная драматургия, самодовольно восхваляющая собственность и порядок, была не менее далека от показа типических конфликтов действительности.
Поздняя мелодрама пыталась сохранить отсветы романтической веры в человека и узаконенной корысти противопоставить идеал бескорыстия, человечности, благородства. Она искала своих героев в людях, далеких от мира прюдомов, от "лексикона прописных истин" мещанина. Именно поэтому Деннери оказался Фредерику ближе, чем Скриб или Дюма-сын.
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'