
Четырнадцатая истина о черном дрозде
Это просто тринадцать точек зрения на черного дрозда. Но истина, я думаю, обнаруживается, когда писатель, уловив все эти тринадцать способов видения, выработает еще одно, собственное, четырнадцатое представление об этом дрозде, которое и есть истина.
Как известно, Сергей Михайлович Эйзенштейн начинал свой путь с работы на театре в качестве художника. Мне выпала счастливая доля пройти рядом с ним первые годы учебы у Мейерхольда, дебютов на крохотной сценической площадке театральной мастерской Николая Фореггера ("Мастфор") и открытия кинематографа.
В 1921 году мы вместе впервые увидели "Нетерпимость" Гриффита, "Доктора Мабузе" Фрица Ланга, а в кино Малая Дмитровка, 6 (куда нас, "нищих студентов", пускал бесплатно, "зайцами", милейший администратор Михаил Бойтлер) прошли курс "заячьей академии" (как ее впоследствии окрестил Эйзенштейн), просмотрев весь цикл "Тайн Нью-Йорка", "Маски, которая смеется", "Дома ненависти" и прочих "боевиков" с участием Пирл Уайт и Рут Роллан.
И вот, тщательно изучив эти безупречно воздействующие на зрителя разнообразные механизмы, Эйзенштейн откинул их, как только настал час самостоятельных решений.
Уже до этого в первых театральных опытах он отбросил традиционные навыки сценических иллюзий, стремясь выйти за пределы площадки и приблизить действие к зрителю, возвращаясь тем самым к законам народных зрелищ.
В пролеткультовской инсценировке "Мексиканца" по рассказу Джека Лондона Эйзенштейн, числясь на афише лишь художником спектакля, а по существу являясь его сорежиссером (с В. Смышляевым), выдвинул в публику боксерский ринг; затем в первой своей самостоятельной постановке, цирковом агитзрелище по канве комедии Островского, использовал одну из зал бывшего купеческого особняка как арену; а вскоре и просто "выскочил" с пьесой Сергея Третьякова "Противогазы" в цех реального завода.
Сегодня, когда британские актеры играют "Варфоломеевскую ярмарку" Бена Джонсона в Лондонском паровозном депо, а другой коллектив расположился на территории Королевской биржи по продаже шерсти в Манчестере; когда краснопресненские студийцы играют пьесу о Дзержинском в вагоне дачного поезда, а интернациональные актеры Питера Брука гастролируют на площадях африканских деревень,- никого уже не удивишь эйзенштейновским решением двадцатых годов, но тогда оно прозвучало дерзко, и последовательным оказалось следующее "откидывание" вообще театра и прыжок в кино.
Но и здесь прежде всего выявилась неистребимая взыскательность новатора, тем самым подтвердив парадоксальное изречение Фейербаха: "Только тот, кто способен на абсолютное отрицание, может что-нибудь создать".
Эйзенштейн начал с отрицания всего, что считалось незыблемыми правилами тогдашнего кинематографа и что он сам, казалось, изучил в совершенстве.
Решающим революционным актом стало обращение художника к тематике классовой борьбы пролетариата. Малоосознанным остается и по сей день тот факт, что жизнь и деятельность рабочего класса чрезвычайно редко становится предметом искусства - здесь, как нигде, цепко держатся еще каноны буржуазного мировосприятия.
И не только в кинематографе или на театре, но и в других искусствах сказывается инерция, изо всех сил сопротивляющаяся осознанию решающего появления на арене истории нового класса,- тем более весома заслуга Эйзенштейна, явившегося, по существу, зачинателем доселе небывалого, политического кинематографа, оказавшего влияние и на все смежные искусства.
Фильм "Стачка" по количеству "откидываний" всех приемов и штампов, накопленных к тому времени в зрелищных искусствах, становится не только эталоном творческой разборчивости, требовательности и сознательности, о которых писал поэт, но и утверждением новых, неслыханных возможностей искусства XX века.
Эпоха великих революционных преобразований, начавшаяся с тех самых "десяти дней, которые потрясли мир", выдвинула гениального художника, и в своем первом фильме он совершил столько открытий, что их эхо отдается и сегодня во всех концах земного шара, где искусство вступает в борьбу с капитализмом на стороне пролетариата.
Кажется, что именно об этой кинокартине написаны строки из поэмы о ста пятидесяти миллионах, вышедшей в те же годы без имени автора:
"...это -
революции воля,
брошенная за последний
предел,
это -
митинг,
в махины машинных тел
вмешавший людей и зверьи туши,
это -
руки,
лапы,
клешни,
рычаги
туда,
где воздух поредел,
Вонзенные в клятвенном единодушьи"*.
* (Маяковский В. В. Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. 6. М., Гослитиздат, 1940, с. 17-18.)
Здесь поразительно совпадение поэта и режиссера не только по общей интонации и замыслу, но даже по деталям, таким, как описание митинга машинных тел, вмешавшего "людей и зверьи туши", что соответствует индустриальной эстетике всего фильма и финальным кадрам бойни.
Если же учесть, что Эйзенштейн замыслил свою картину в окружении бездарного цикла пролеткиновских серий "Из искры пламя", межрабпомовской "Аэлиты" и прочих "медвежьих свадеб", вступая в конкуренцию с американским "Багдадским вором", с одной стороны, и немецким "Кабинетом доктора Кали-гари" - с другой, на фоне отечественного лозунга "Назад к Островскому!", то можно лишь подивиться мужеству автора "Стачки".
Но соперники были и слева - мощное наступление "Киноглаза" Дзиги Вертова, отрицавшего любые формы "игрового кино", тоже не облегчало создание "пролетарского боевика". И все-таки он появился, и с него нужно начинать отсчет - наряду с вертовскими "киноправдами" и монтажными фильмами Эсфири Шуб - рождения подлинно революционного кино.
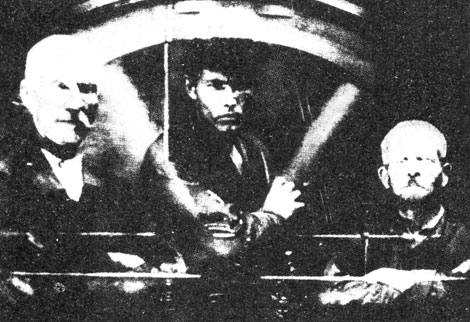
Кадры из фильма С. Эйзенштейна 'Стачка'. 1924 г.
Новаторская тема вызвала к жизни и новаторскую форму, но в зарубежном киноведении ее стали сводить главным образом к отсутствию индивидуальных героев и замене их "массой" - отсюда сравнения с господствующей в те годы драматургией немецкого экспрессионизма. Действительно, нашумевшая пьеса Эрнста Толлера так и называлась - "Человек-масса", а в опусах Георга Кайзера, Газенклевера и других германских авторов персонажи носили условные имена. Однако эти аналогии поверхностны - трагический конфликт одиночки интеллигента не с "массой", а, по существу, с "толпой", лежавший с разными вариациями в основе экспрессионистической драматургии, не имел ничего общего с принципами "Стачки" Эйзенштейна.

Кадры из фильма С. Эйзенштейна 'Стачка'. 1924 г.
Пожалуй, наиболее четкое определение ее структурных особенностей дал сегодня французский критик Паскаль Бонитцер в своей книге "Взгляд и голос": "Стачка, о которой идет речь, трактуется вне четкого ее соотнесения с исторической конкретностью, это наглядная выжимка из великих битв пролетариата в революционной России и массовых убийств 1905 года... Она делает необходимым то, что Эйзенштейн называет "фабульно-массовым материалом" в противоположность "фабульно-идивидуальному материалу буржуазного кино"; иными словами, основными действующими лицами сюжета становятся коллективы, а не индивидуумы: не просто буржуа, рабочие, полицейские и т. д., но Рабочий класс, Буржуазия, Полиция, Люмпен-пролетариат и т. д."*.
* (Bonitzer P. Le regard et la voix. Paris, Union General d'Edition, 1976, p. 239.)

Кадры из фильма С. Эйзенштейна 'Стачка'. 1924 г.
Эйзенштейн, несомненно, очень внимательно смотрел современную часть "Нетерпимости" и особенно - эпизод расстрела рабочей демонстрации, но именно здесь заметно, что он "откидывал" из опыта Гриффита: все, казалось, наиболее действенное, то есть мелодраматический сюжет, с его сложными перипетиями ложного обвинения в убийстве, несправедливого суда и знаменитой концовкой "спасения в последнюю минуту". Эйзенштейн предпочел принципиально новое решение: движением фильма стала классовая борьба, эпизоды заменились главами, повествующими о ее этапах, а фабульные перипетии уступили место "монтажу аттракционов", в систему которых вошли и "гиньоль", и эксцентриада, и пародийно взятые элементы "детектива", и прямой агитпафос.
Отброшены также были и каноны жанрового единства - трагическое соседствовало с резко комедийным (линия "шпаны" с "Королем" во главе), почти натуралистические эпизоды домашнего рабочего быта чередовались с условно плакатными сценами капиталистов, где впервые заплясали на столе лилипуты, перекочевавшие потом в "Молчание" Бергмана и в фильмы Бунюэля.
И сколь наивными ни казались бы сегодня эти буржуи в обязательных цилиндрах, дымящие сигарами, не будем забывать, что сошли они на экран прямо с массовых народных представлений и революционных карнавалов, рожденных в первые годы революции. Кстати, они тоже вернулись сегодня к жизни в таких современных зрелищных коллективах, как знаменитый американский "Паппет энд брэд", использующий в своих уличных спектаклях огромные агитмаски, да и во многих иных студенческих и любительских труппах, взявших на вооружение опыт советского политического театра и кино.
Также задолго до неореализма и "новой волны" Эйзенштейн отбросил павильоны и выплеснул действие в подлинные цеха и на окраины заводских поселков. Одновременно его камера (в руках зоркого Эдуарда Тиссэ) открыла и утвердила новую фотогению индустриального пейзажа, выявила фактуры фабричных задворок, связок канатов, свалок колес, подчеркнула кинематографическую выразительность стихий воды и огня, конструктивную красоту металлических перекрытий и динамику станков.
Традиционные кинонаплывы и двойные экспозиции, унаследованные от мельесовских феерий, приобрели новое качество в виде кинометафор ("шпики" - "животные") или для передачи звуковых ассоциаций (знаменитый кадр гармошки на рабочей гулянке), а наиболее дискуссионное монтажное сопоставление расстрела демонстрации с бойней скота также вскоре нашло отклик и в эпатажном фильме Франжю "Кровь животных", и в телячьих тушах, привязанных к роялям, что потащили на себе семинаристы из "Андалузского пса" Бунюэля, и в апокалиптическом видении трагедии нацистских концлагерей в фильме Рене "Ночь и туман".
Но в том-то и заключалась сила и принципиальность новаторства Эйзенштейна, что любой из его сильнодействующих "аттракционов" был осмыслен социально и служил выявлению открыто выраженной и отчетливой политической позиции художника.
В этом его коренное отличие от производимых одновременно опытов французского "авангарда" и от последующих экспериментов американского "подпольного кино".
Поэтому можно признать правильным еще одно наблюдение парижского киноведа, даже не принимая слишком всерьез его увлечение модным "мифотворчеством":
"Все в "Стачке", с известной поправкой, напоминает миф об Эдипе, Эдипе Геракловом, в прочтении Делеза в его "Логике смысла": "Эдип обладает чертами Геракла, потому что он тоже миротворец, он хочет создать царство по своему масштабу, царство поверхности и земли. Ему казалось, что он смог заклясть чудовищ глубины и установить связь с высшими силами..."*.
* (Bonitzer P. Le regard et la voix. Paris, Union General d'Edition, 1976, p. 239.)
Очевидно, что Эйзенштейн рассказывает историю, следовало бы писать - Историю, с большой буквы, не совсем таким образом: "Стачка" - это Октябрь кино, она не является Февралем; он ставит фильм в 1925 году, в то время, когда рабочий класс - которому уже начинают возводить геракловы и миротворческие статуи - уже знает все, что касается могущества высот: возможно, он похож на Эдипа, но не является реформистом"*.
* (Bonitzer P. Le regard et la voix. Paris, Union General d'Edition, 1976, p. 239.)
В этом высказывании автору делает честь справедливое определение фильма Эйзенштейна как Октября в киноискусстве; оно подтверждается и последующим влиянием на все развитие мирового прогрессивного кинематографа, причем его отнюдь не следует толковать лишь как подражание или формальное перенесение стилевых приемов.
Но каждый раз, когда перед зарубежными художниками стоит проблема передачи тех или иных форм классовой борьбы, нарастающих революционных событий, они не проходят мимо уроков "Стачки". Наиболее честные и бескомпромиссные политические фильмы - американцев Бибермана и Уилсона "Соль земли", Барбары Коппл "Округ Харлан, США", Мартина Ритта "Норма-Рэй", боливийца Хорхе Санхинеса "Мужество народа", аргентинцев Оттавио Геттино и Фернандо Соланаса "Время костров", бразильцев Серджио де Толедо и Роберто Гервица "Руки скрещены, машины остановлены", чилийца Мигеля Литтина "Случай на шахте Марусиа" и ряд других картин (итальянцев Грегоретти и Моничелли, кубинских и южноамериканских режиссеров) - следуют по пути, проложенному советским мастером.
Здесь рядом с ним нужно поставить еще одно имя художника, чьи замыслы и решения неоспоримо являют пример высокого мужества открытий,- Александра Довженко.
Словно про его "Звенигору" писал тот же Маяковский:
"По каждой
тончайшей артерии
пустим
поэтических вымыслов феерические
корабли"*.
* (Маяковский В. В., т, 6, с. 23.)
Впрочем, при обращении к творчеству Довженко на память приходят и строки другого поэта, также из "сословия творян",- Велимира Хлебникова.
Именно о нем говорил Юрий Тынянов так, что, заменяя фамилию поэта на имя кинематографиста, можно понять существо поэтики обоих художников:
"Хлебников был новым зрением. Новое зрение одновременно падает на разные предметы. Такой языческий мир, близкий к нам, копошащийся вблизи, незаметно сливающийся с нашей деревней и городом, мог построить художник, словесное зрение которого было новое, детское и языческое..."
И далее:
"Хлебников потому и мог произвести революцию в литературе, что строи его не был замкнуто литературным, что он осмыслял им и язык стиха и язык чисел, случайные уличные разговоры и события мировой истории, что для него были близки методы литературной революции и исторических революций"*.
* (Тынянов Ю. Н. О Хлебникове.- Хлебников В. В. Собр. произв. в 5-ти т., т. 1. Л., ИПЛ, 1928, с. 24, 28.)
Открытием Довженко в "Звенигоре" стало именно то, что ему удалось резким рывком разорвать замкнутый кинематографический строй, пленником которого был он сам в первых своих фильмах, включая "Сумку дипкурьера" и ранние короткометражки.
Как былинный богатырь, осознавший свою силу, сбросил он оковы штампов, и открылось у него то самое новое зрение, которое было свойственно Хлебникову. В этом Довженко признался в автобиографии:
"Мое видение вещей казалось мне громадным, не дававшим ни днем, ни ночью покоя, оно искало себе выхода в кинематографии, искусстве динамическом, устраивавшем меня на первых порах вполне. Я овладел им довольно быстро, решительно, без всякой подготовки и сейчас усмехаюсь смелости и дерзости своей и напору трудолюбия... "Звенигора" в моем сознании отложилась как одна из интереснейших работ. Я ее сделал как-то одним духом - за сто дней... Я ее (картину) не сделал, а пропел, как птица"*.
* (Довженко А. П. Собр. соч. в 4-х т., т. 1. М., "Искусство", 1966, с. 46, 48.)
Если Эйзенштейн, откинув традиционную фабульную структуру, нашел решение "Стачки" в столкновении "аттракционов", скрепленных глазами эпической прозы, то Довженко предпочел построение песенное, раскованное, с большим чередованием мелодий и лейтмотивов.
"Всегда, навсегда, там и здесь! Всем все, всегда и везде,- Наш клич пролетит по звезде! Язык любви над миром носится И Песня песней в небо просится"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв., т. 1, с. 189.)

Владимир Хлебников. Рис. Б. Григорьева
Если для Эйзенштейна начиная с первого фильма становится характерным конденсировать действия вокруг одного резко очерченного и сжатого по времени пространства (завод в "Стачке", корабль и лестница в "Броненосце "Потемкине", Зимний дворец в "Октябре", деревня в "Старом и новом", ледовое побоище в "Александре Невском"), то у Довженко в "Звенигоре" события распластываются, растекаются по просторам эпох и мест действия, тем самым открывая путь свободе повествования, которая станет впоследствии характерной для фильмов Бергмана ("Земляничная поляна"), Феллини ("81/2") или Бертолуччи ("XX век").
Но оба молодых новатора, каждый по-своему, как бы прислушивались к призывам "председателя Земного шара" Велимира Хлебникова:

Легендарный дед (арт. Н. Надемский), хранитель народных сокровищ, в фильме А. Довженко 'Звенигора'. 1927 г.
"Вам, юношам, не раз кричавшим
"Прочь" мировой сове,
Совет:
Смелее вскочите на плечи старших
поколений,
То, что они сделали,- только ступени.
Оттуда видней!
Много далеко
Увидит ваше око,
Высеченное плеткой меньшего числа
дней"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв., т. 1, с. 151-152.)
И вот уже плывут рапидом по экрану всадники-гайдамаки, а легендарный дед, хранитель народных сокровищ (как некстати забредет он полстолетия спустя в чуждую ему "Сибириаду"), начнет свой длящийся веками поединок с Черным монахом, напоминающим не то Мельеса в гриме феерического Мефистофеля, не то рыцаря-Смерть из "Седьмой печати" Бергмана.
И так же как и у Эйзенштейна, трагическое будет перемежаться с эксцентрическим, фантастические силуэты чужеземцев, похожих то ли на викингов, то ли на нибелунгов, чей корабль волокут на себе подневольные крестьяне,- эти враги будут распиливать несчастного деда, как в ранних, бурлескных "комических" фильмах, но он воскреснет, как и подобает герою преданий или арлекинад, и опять двинется через века со своими сыновьями Павло и Тимошей.
И, как гоголевский Бульба, переживет он измену одного из них - Павло, что сбежит в эмигрантский паноптикум и будет кривляться ему на потеху с револьвером у виска и красить лошадь в белый цвет, чтобы въехать на "белом коне" в покоренную Украину, но погибнет бесславно от того самого динамита, что вручит ему Черный монах.
"И вот плывет между созвездий, Волнуясь черными ужами, Лицо отмщенья и возмездий, Глава отрублена ножами"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв., т. 1, с. 101.)
Тимошу оторвет от плуга война, завоют в смертном плаче бабы, и выйдут с котомками и запляшут в исступлении, как затанцует вскоре Василь и упадет в сельскую пыль, но вернется Тимоша целехоньким и станет покрывать черную доску меловой вязью математических формул (и здесь "Доски судьбы" Хлебникова!).
А режиссер как песню снимет стройку Днепровской плотины, угольные платформы поездов станут вдруг похожими на сундуки с легендарными сокровищами, и понесутся дед с Тимошей в железнодорожном вагоне навстречу новой жизни, и будут перед ними на скамье лишь кружка чая и краюха хлеба - подлинные человечьи сокровища, и налетит на зрителя в финале паровоз, врезаясь, как киль бессмертного броненосца "Потемкин".
А в памяти останутся навсегда и те картины украинской природы, что станут вскоре главным богатством палитры мастера:
"Точит деревья и тихо течет В синих рябинах вода. Ветер бросает нечет и чёт... Тихо стоят невода". И еще: "Но жук положен на цветок, И если это родина моя, Она вновь спасена Движением нехитрой рукояти"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв., т. 3, с. 106, 99.)Горят костры Ивановой ночи, и поплывут по реке венки со свечками через века, и вместе с ними побредет сквозь столетия седой неукротимый дед и вздохнет вместе с поэтом:
"Давно ли вишня, хмель и груша
Богинями весны цвели на
Украине"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв., т. 3, с. 51.)
Под грушевым деревом настигнет деда тихая кончина в прологе "Земли", но ведь
"Когда умирают кони - дышат,
Когда умирают травы - сохнут,
Когда умирают солнца - они гаснут,
Когда умирают люди - поют
песни"*.
* (Хлебников В. В. Собр. произв., т. 2, 1930, с. 97.)
При первом показе в Москве "Звенигора" встретила восторженный прием у кинематографистов. И знаменательно, что лучше и тоньше всех разгадал ее магию Эйзенштейн. В своей статье "Рождение мастера" он вспоминал, как во время просмотра "...картина все больше и больше начинает звучать неотразимой прелестью. Прелестью своеобразной манеры мыслить. Удивительным сплетением реального с глубоко национальным поэтическим вымыслом. Остросовременного и вместе с тем мифологического. Юмористического и патетического. Чего-то гоголевского..."*.
* (Эйзенштейн С. М. Избр. произв. в 6-ти т., т. 5. М., "Искусство", 1968, с. 440.)
Вот и произнесено вовремя впервые имя классика литературы, чьи строки пророчески словно определили и размежевали двух великих мастеров. В статье "В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность" Николай Васильевич Гоголь писал:
"Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни - на то и дан ему многосторонний, описательный талант.
Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях - и на то дан ему лирический талант"*.
* (Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми т., т. 6. М., "Худож. лит.", 1978, с. 353.)
Лирический дар Довженко и эпический талант Эйзенштейна получает свое законченное воплощение в последующих фильмах, но "Стачка" и "Звенигора", при всех их "наивностях", неровностях и шероховатостях, обнаруживаемых сегодняшним глазом, останутся незыблемыми свидетельствами мужества мастеров "четырнадцатой истины".
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'