
Распутье
После успешных сезонов у Синельникова Полевицкая 18 февраля 1914 года приезжает в Москву. Она уверена в своих творческих возможностях, счастлива избранной дорогой, благополучием в семейной жизни. Но первый же момент пребывания в Москве озадачил ее, поставил в тупик. На перроне ее встречал не только Иван Федорович, но и администратор Художественного театра Н. А. Румянцев.
- Я к вам, Елена Александровна, - сказал он, - с поручением от Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, которые просят вас не подписывать контракта ни в какой театр, прежде чем вы не поговорите с ними.
Встреча с Немировичем-Данченко была назначена без промедления. В одиннадцать часов того же дня Немирович-Данченко приехал к ним в номер в гостинице "Метрополь" и предложил Полевицкой поступить в Художественный театр. Актриса была поражена. Она знала, что ни Станиславский, ни сам Немирович-Данченко никогда не видели ее на сцене и даже не слышали звука ее голоса. Оказалось, что В. В. Лужский, бывший проездом в Киеве, видел Полевицкую в "Дворянском гнезде" и рассказал в театре о том, какое сильное впечатление она произвела на него.
- Но я не хочу, чтобы меня приглашали с завязанными глазами, - возразила Полевицкая.- Я хочу, чтобы Константин Сергеевич и вы, Владимир Иванович, увидели товар лицом, после чего решили бы - подхожу я вашему театру или нет. В чем вы хотите меня видеть?
Немирович-Данченко назвал Катерину в "Грозе", "Екатерину Ивановну" и Лизу в "Дворянском гнезде".
В тот же день Полевицкая сыграла без грима и костюмов II и V акты "Грозы", III акт "Екатерины Ивановны" и отрывки из "Дворянского гнезда". Партнером ее, подававшим реплики, был Н. О. Массалитинов.
Далее предоставим слово самой актрисе:
"Когда Владимир Иванович приехал опять к нам в "Метрополь", я сказала ему: "Прежде всего мне хотелось бы услышать ваше и Константина Сергеевича впечатление от моего показа". Владимир Иванович сказал: "Гроза" - превосходно! "Екатерина Ивановна" - очень интересно, и я должен признаться, интереснее, чем у нас, и совсем иначе раз решен образ Екатерины Ивановны. А вот Лиза в "Дворянском" нехорошо! Ее надо совершенно переделать. Но вы не волнуйтесь, мы вам поможем. Мы вас положим на операционный стол, вскроем вас и выкинем все, что там плохо. Это поправимо. Но безусловно то, что талант у вас есть, это вне сомнения. Мы предлагаем вам следующие условия: первое положение, равное тому, которое у нас занимают О. Л. Книппер, В. И. Качалов, И. М. Москвин и другие - всего шесть человек. Годовой оклад - шесть тысяч рублей. Все костюмы и платья - наши. Эти три роли: Катерину в "Грозе", Лизу в "Дворянском гнезде" и Екатерину Ивановну - вы сыграете в первый же сезон у нас и с первого вашего шага на нашей сцене вы становитесь пайщицей нашего дела..."
Все, что Владимир Иванович предложил, было невероятно, блестяще! Потолок! Выше потолка! В особенности три такие роли в один сезон! Это звучало сказочно, так как всем было известно, что актеры в Художественном театре умирали, не дождавшись ни одной хорошей роли. Тем страшнее, опаснее выглядело это предложение, что оно было так заманчиво. Потряс меня этот операционный стол и операция, которая меня ожидала. И я сказала: "А если, взрезывая меня, вы выпустите из меня то, что во мне самое ценное?" Он вздохнул: "Ну что ж делать! Несчастье! Неудача!" Я ответила: "Для вас это только неудача, а для меня -- смерть!" Мы долго еще беседовали, в три часа ночи Владимир Иванович уехал, прося позвонить ему утром. До утра мы разбирались с Иваном Федоровичем в том, что услыхали от него. Я, как петербуржанка, не была под гипнозом Художественного театра - я его не знала. Я видела у них во время их гастролей в Петербурге всего два спектакля, а именно "Вишневый сад", который мне очень понравился, пленил меня, и "Бранда" Ибсена, который мне совсем не понравился, был лишен страстности и экстаза.
Но особенно потрясло их намерение "оперировать" меня. Так легко принятое решение "оперировать" актрису, которую они совсем не знают, и оперировать из-за той именно роли, в которой она уже имела у десятков тысяч русских зрителей, другими словами, у нашего народа, успех абсолютный и исключительный.

Е. А. Полевицкая выступает на вечере памяти Э. Дузе в Доме ветеранов сцены. В президиуме - А. А. Яблочкина и Е. Д. Турчанинова. 1958 г.
В чем Художественный театр ищет своей высшей награды? В любви народа, в признании народа. Я тоже. Почему мнение Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко должно быть для меня ценнее, дороже, чем любовь народа, которую он приносил мне именно за роль Лизы? Я деспотизма в искусстве не признаю. От насилия в искусстве - я задыхаюсь, костенею. Я потому так легко, радостно воспринимала каждое указание Николая Николаевича Синельникова, что он вел меня, не насилуя, а бережно направляя, развивая меня, подсказывая. Примером жертвы деспотизма всю жизнь перед моими глазами стояла Вера Федоровна Комиссаржевская у Мейерхольда. И я была свидетельницей той фазы этого разрушительного влияния, когда Вера Федоровна, убедившись в своем роковом, гибельном заблуждении, пыталась вернуться путем отчаянных усилий и мучений к своему, свойственному ее исключительной природе реалистическому пути в искусстве...
Утром я позвонила Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко и сказала, что я решила остаться в Москве, но не у них, не в Художественном театре. На это последовала пауза, и затем: "Очень жаль... (И опять пауза.) Во всяком случае, - если вам понадобилось бы рассказывать о том, как Художественный театр вас добивался, - мы отрицать этого не будем". В тоне было сдержанное раздражение, некоторая доля ехидства. Я, задетая этим, ответила: "Надеюсь, что мне это не понадобится".
Тогда же, в феврале 1914 года, Полевицкая подписала контракт с театром Суходольских. Контракт был заключен также с Иваном Федоровичем как с режиссером, и супруги в начале марта уехали вместе с киевской труппой Синельникова на гастроли в Харьков. И хотя всезнающий журнал "Театр и искусство" поспешил дать объявление: "Провинциальная артистка г-жа Полевицкая, подписавшая [контракт] на будущий сезон в труппу гг. Дувана и Суходольского, с следующего сезона 1915/16 г. принята в труппу Художественного театра"*, к вопросу о поступлении в МХТ Полевицкая никогда больше не возвращалась.
* ("Театр и искусство", 1914, № 21, с. 460.)
Лето 1914 года отмечено в жизни Полевицкой длительным путешествием по многим странам. Сначала она и Шмит прошли обычный курс лечения в Сальсомаджоре, затем из Генуи отправились на пароходе по Средиземному морю вдоль северного берега Африки. Судно стояло по три - четыре дня в Алжире, Тунисе, Танжере, и они имели возможность хотя бы бегло осмотреть эти города. В пути их ожидала масса интересных встреч, смешных и грустных, пугающих и увлекательных.
Полевицкая рассказывает:
"Когда мы подошли к Алжиру и сходили по трапу на берег, нас поджидала толпа местных любопытствующих. Среди них был особенно яркий молодой негритянский парень, оживленно и радостно реагировавший на появление европейцев. В нас он почему-то тотчас признал русских и, сияя и улыбаясь своей широкой откровенной негритянской улыбкой, обнажая блистательные зубы, кивая, махая нам руками, счастливый своим знанием русского приветствия, он прокричал мне в лицо отборную матерную ругань. Это была, конечно, милая шутка наших веселых морячков над славным парнем.

Графиня. Кинофильм 'Пиковая дама'
На краю дорожки сидел в белых лохмотьях нищий, сидел по-восточному, босой, между ног стоял какой-то черепок, в который прохожие бросали милостыню. Он повторял монотонно лишь одно слово: "Альмендрос!" и при этом кланялся. Он был абсолютно слеп. Нас потрясло, сколько людей там искалечено, сколько людей - и не старых - нищенствует! Их приводят родственники на дороги, где проходят туристы, и лишь на закате солнца уводят домой. Мы хотели осмотреть туземную часть города. Нас остановил полисмен и сказал нам, что в туземную часть города туристам не рекомендуется ходить без полисмена, так как обычно европейцы из туземной части не возвращаются.

Баоыня. Кинофильм 'Муму'
На меня Алжир произвел мрачное, тяжелое впечатление. Только это слово "Альмендрос" мы взяли с собой в жизнь. В этом слове, в музыке его есть просьба о милости. И вот мы условились между собой, что когда один из нас обидит или огорчит другого (мы жили с Иваном Федоровичем очень дружно, и "тучки" бывали редко) и один из нас произнесет "Альмендрос", то другой должен подойти и поцеловать просящего о милости. Это слово оказывало свое действие на нас и по телеграфу.
В Танжере мы решили остановиться недели на две - три...
В отеле "Континенталь" получили прекрасную комнату, по-европейски оборудованную, выходящую на океан, с балконом. С этого балкона мы смотрели на состязания наездников. При закате солнца, при отливе океана, на прибитый его мощными волнами песок, съезжались молодые арабы на дивных арабских лошадках и на фоне неба и океана мчались в своих развевающихся белых бурнусах, производя впечатление летящих крылатых существ. Это было одно из тех редчайших по красоте впечатлений, которое неожиданно нам дарит случай и которое мы храним потом на всю жизнь как нечто драгоценное в сокровищнице наших светлых радостей. В них была и молодость, и радость жизни, и полет к свободе, к счастью.
Вечером, после ужина, мы пошли бродить по Танжеру. Ночь спустилась мгновенно. Низкое бархатное небо с громадными звездами. Мы бродили по тропинкам, подымались на холмики, спускались- тишина, безлюдье. Вдруг нам почудилась музыка, мы пошли в направлении звука. Увидели щель света, видимо, от открывающейся и закрывающейся двери. Подойдя вплотную, мы убедились, что это или кабачок, или маленький кафешантан- чик. Вошли. Очень маленькая самодеятельная сцена с занавесом, на ней выступают артистки. Оглядевшись, увидели круглый стол, за которым сидело уже человек семь, прямо против сцены. Иван Федорович, пожелав доброго вечера, спросил, можно ли нам к ним присоединиться. Подвинулись, приняли нас за свой стол. Иван Федорович заказал для нас то же самое местное вино, что пила компания, - нечто кисло-горькое. Закурили. Иван Федорович предложил ближайшим соседям сигареты.
Я сидела между Иваном Федоровичем и арабом - молодое лицо с бородкой, благородные красивые черты лица. Синий бешмет. Чалма. Соседи Ивана Федоровича были моряки португальские и испанские. Я, конечно, единственная женщина в публике. На маленькой сцене шла программа, большей частью немолодые женщины. И вдруг появляется девочка лет 14-ти, а может, и моложе, в розовых атласных штанишках, в блузке тоже розовой с белым матросским воротником. Она не умела ни петь, ни плясать, но была очень молода и жизнерадостна. Она крутилась на сцене, поглаживая и похлопывая себя по всем частям тела, так сказать, рекомендуя вниманию публики - как у нее все складно и хорошо. Это было очень свежо и наивно. На нее нельзя было не радоваться. Иван Федорович подозвал хозяина и спросил - нет ли у него цветов. Хозяин не мог понять - какие цветы, зачем цветы. Все стали принимать участие. Очень длинный молодой негр, крутившийся между столиками и откровенно добродушно нас разглядывавший, сообразив что-то, жестикулируя, толкнул Ивана Федоровича в бок, поясняя ему этим, что он понял, и, сияя, исчез во входную дверь, за ним побежали мальчишки помельче.
В это время мой сосед, молодой араб в синем бешмете, наклоняясь через меня к Ивану Федоровичу, сказал на хорошем французском языке: "Ваша дама желает цветок? Если вы позволите, я могу предложить ей один цветок". И распахнул бешмет - слева в подкладке у него была прикреплена красная роза. Мы были поражены этой грацией, этой тонкостью, этим тактом, этим эстетизмом. Поблагодарили его и объяснили, что нам нужно. В это время вернулся длинный негр, торжествующий, в руках у него были желтые цветы на длинных стеблях, с корнями и землей, вырванные, по-видимому, им через забор чужого сада. Он сиял, он чувствовал себя героем. Цветы связали, корни с землей отрубили. Предстояло теперь вызвать девочку в розовой матроске на сцену. Мы могли наблюдать, как другие "дивы" ее не пускали, щипали, и наконец она вылетела чуть не кубарем на сцену. Схватила цветы и помчалась обратно в кулисы, прижимая к себе цветы обеими руками, защищая их от нападения, вне себя от счастья. Такого триумфа эта сцена еще не видала никогда. За кулисами ее, наверное, поколотили. На нас посетители смотрели как на миллионеров, на чародеев, на меценатов.
На следующее утро мы пошли посмотреть восточный базар. Нам сказали, что там можно увидеть заклинателя змей. Проходя мимо мечети, мы сунули было и туда нос, но были сурово не допущены. Идем и мечтательно разговариваем о том, какое это приятное чувство - бродить где-то в сказочном царстве, в тридесятом государстве, где никто тебя не знает, не понимает - воспринимать неподготовленными глазами и ушами чужих людей, пытаться понять их интонацию, смысл их речи. Как приятно!.. Ни одного комментатора, ни одного сколько-нибудь нам знакомого человека, ни одного русского туриста - ив эту минуту выходит из-за угла Николай Николаевич Евреинов. Снаряжен для тропиков - шляпа "здравствуйте - прощайте" (в общем единственная настоящая "тропическая" шляпа, какую мы встретили на путях этого нашего путешествия). Он с секретаршей, секретарша - с блокнотом. На ее обязанности записывать все, что он произносит. Дальше мы пошли вместе... Иногда Евреинов обращался к своей секретарше с вопросом: "Скажите, как я выразился два дня тому назад, когда мы разговаривали о предводителе кабилов?" Секретарша быстро-быстро шелестела страничками своего блокнота, отыскивала и читала: "В семь часов двадцать минут такого-то числа вы сказали..." - дальше шел текст.
Николай Николаевич поведал нам, что в Марокко опасные настроения в народе. Кабилы готовят восстание против французов. Что ему удалось познакомиться и подружиться ("что очень ценно!") с предводителем кабилов, что они иногда встречаются в одном из местных притонов, где он и узнает от своего друга о положении дел, что он каждый день ждет уведомления от предводителя, - когда начнутся активные действия повстанцев, чтобы в связи с этим успеть уехать, пока есть возможность, и не попасть в кровавую резню".
Далее Полевицкая рассказывает о том, как Евреинов предложил нм познакомиться с "предводителем кабилов" и как они, согласившись из любопытства, пришли вместе с ним в тот самый кабачок, где дарили цветы "розовой девочке". Но предводитель не явился. Евреинов, более всего на свете любивший собственную славу, был явно оскорблен популярностью своих русских знакомых в этом кабачке, где каждая из танцовщиц в стремлении заработать цветы пела и танцевала только для них.
Затем Полевицкая и Шмит посетили Кадикс, Севилью, где восхищались мавританской архитектурой и не без отвращения наблюдали бой быков, Мадрид, где Полевицкая почти все время провела в Музее Прадо, среди картин Тициана, Веласкеса, Гойи, увидеть которые давно мечтала, затем Париж и, наконец, Лондон.
В Лондон они приехали специально для того, чтобы посмотреть на сцене "Пигмалион" Бернарда Шоу - именно с этой пьесой Шмит должен был вскоре впервые выступить как режиссер-постановщик в театре Суходольских.
Поставленная в театре "Хиз маджестис", она имела огромный успех, до некоторой степени скандальный. Роль Элизы Дулитл исполняла Патрик Кэмпбелл. Ее тирады в защиту независимости женщин служили английским суфражисткам неким сигналом для того, чтобы устраивать здесь же, во время представления, своеобразные митинги. Стоило Элизе сказать: "Раздавить я себя не позволю" или "Если уж мне отказывают в ласковом слове, я по крайней мере сохраню независимость!", как из разных концов зрительного зала раздавались крики: "Голосуйте за женщин!", "Требуем прав для женщин!" Полиция едва справлялась с суфражистками. Дирекция мобилизовала театральный оркестр, чтобы в нужные моменты музыкой заглушать шум и выкрики. В тот вечер, когда спектакль смотрели Полевицкая и Шмит, произошел и вовсе курьезный случай:
"Одна из суфражисток приковала свою ногу к ножке кресла, замкнула цепь на замок, а ключ выбросила. Это было ново в практике полисменов, и они долго возились, пока разбили сковывающую цепь. А суфражистка была горда, счастлива, что она остроумным трюком выиграла много минут для пропаганды своих идей".
Познакомились они и с самим Бернардом Шоу. Об этой интересной встрече Полевицкая рассказывает: "В маленьком ресторанчике сошлись к двенадцати часам дня следующие лица: Бернард Шоу, его друг Петр Алексеевич Кропоткин - наш русский анархист и географ, дочь Кропоткина, Александра Петровна, мы с Иваном Федоровичем и откуда-то взявшийся Александр Акимович Санин. Мы все сошлись к завтраку, но остались вместе и на обед и разошлись только вечером. Из всех присутствовавших я одна не знала совсем английского языка, Иван Федорович и А. А. Санин - знали немного, Александра Петровна вызвалась быть переводчицей, но вскоре отец отстранил ее и взял на себя этот труд. Делал он это так художественно, что в его переводе отражен был весь Бернард Шоу с его тонкой психикой, острым сарказмом и иронией, легкой, как порхающие летние зарницы, но разящей смертельно, бескомпромиссно молнией его острого мозга. Шоу был в ударе. Помню, когда мы уже разговорились, когда он уже расшифровал каждого из нас и ему было легко, хорошо с нами, он сказал: "Здесь все меня считают за сумасшедшего, но я нахожу, что вы, русские, более сумасшедшие, чем я, потому-то, должно быть, душе моей так светло, ясно, доверчиво в кругу вас". Вокруг него все время была атмосфера наэлектризованности, его мысли вылетали, как молнии. Кропоткин же, наоборот, был тихий, как прозрачный ручей, в котором видно дно с чистыми камешками. Я не умела прицепить к нему понятия "анархист". Он рассказал тихо и кротко о том, как они не допустили Николая II приехать в Англию. Узнав о намерении русского монарха приехать погостить у своего кузена-короля Великобритании, они написали Николаю письмо в несколько слов за двумя подписями - "Б. Шоу и П. А. Кропоткин". Смысл записки был таков: "Если вы приедете в Англию, то больше никогда не увидите вашей родины". И Николай отменил поездку в гости к своему кузену. Кропоткин рассказал это удивительно спокойно, кротко, ясно, но безапелляционно. И было всего-то две эти подписи".
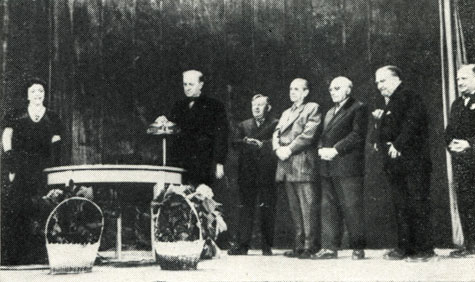
Творческий вечер Е. А. Полевицкой в ЦДРИ 7 марта 1961 г. Е. А. Полевицкая, М. Ф. Астангов, Г. С. Свободны, С. П. Алексеев, Э. Б. Краснянский, В. А. Филиппов, Б. Е. Захава
Говорили о предстоящей постановке "Пигмалиона" в Москве. Бернард Шоу рекомендовал Шмиту молодого художника, и Иван Федорович заказал тому эскизы декораций. Для массовых сцен подобрали множество фотоснимков - военных, штатских, полисменов, нищих, бродячих музыкантов и т. д. Купили даже образцы тканей, которыми тогда обивали мебель.
После этого долгого и увлекательного путешествия Полевицкая и Шмит с особым подъемом приступают к работе в частном театре Суходольских.
Театр этот был создан на базе прекратившего свое существование Свободного театра, в котором три его основных режиссера - К. А. Марджанов, A. А. Санин, А. Я. Таиров, - чрезвычайно разных по своим творческим устремлениям, не смогли прийти к единству и согласию. В результате Таиров создал Камерный театр, а Санин и актер И. Э. Дуван-Торцов, воспользовавшись деньгами миллионера B. П. Суходольского и его супруги, - Московский драматический театр.
В противовес всем экспериментаторским режиссерским начинаниям театр Суходольских своим основным принципом провозгласил ориентацию на актерское мастерство, актерскую индивидуальность. Основатели театра считали, что современный актер обезличен и задавлен экспериментами режиссеров, в то время как его задача - не просто исполнять свою роль, но и воплощать идейный замысел автора.
Поэтому первоначально Суходольские собирались назвать театр "Домом актера", но потом остановились на более нейтральном и скромном "Московский драматический". Соответственно была подобрана и труппа, включавшая блестящее созвездие актеров: помимо Полевицкой в нее входили М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. М. Радин, И. Н. Певцов, Б. С. Борисов, В. О. Топорков, И. И. Мозжухин, М. М. Петипа, Н. Н. Соснин, Е. М. Шатрова, М. С. Нароков, Е. П. Шебуева. Главным режиссером стал А. А. Санин.
Суходольские предложили Шмиту занять хорошо оплачиваемое место директора-администратора или управляющего труппой, но он отказался, объяснив, что административная деятельность его не привлекает, а о режиссерской работе в таком интересном театре он мечтал давно. Директором-администратором стал Исаак Эзрович Дуван-Торцов, давний друг Санина. В репертуар были включены произведения Островского, Тургенева, Андреева, Шекспира, Шоу, Уайльда, что на фоне репертуара других театров выглядело почти академизмом.
Открылся театр 8 сентября 1914 года в здании "Эрмитажа" в Каретном ряду спектаклем "Последняя жертва" с Полевицкой в роли Юлии Тугиной (Дульчин - Н. М. Радин, Флор Федулыч - Б. С. Борисов, Глафира Фирсовна - М. М. Блюменталь-Тамарина, Михевна - Е. П. Шебуева) и сразу же завоевал любовь и признание московских зрителей.
Санин поставил "Последнюю жертву" на какой-то особой, пронзительной ноте чистоты, что полностью соответствовало тому образу Юлии Павловны, который создала Полевицкая в Харькове и в Киеве. Была, например, такая неожиданная деталь: в комнате у Юлии, когда жизнь ее еще полна надежд и счастья, у окна, на фоне тюлевых занавесок висела клетка с канарейкой. Комнату заливало солнце, и, когда по указанию Санина осветитель направлял луч прожектора-солнца на клетку, канарейка начинала петь. Создавалась необыкновенная атмосфера счастья и благополучия, которую тем больнее и горше было уничтожать.
И вот снова "Дворянское гнездо". На этот раз великолепен весь ансамбль. Такие партнеры придавали роли Лизы особую значимость. Варвару Павловну, очаровательное создание наимоднейших парижских салонов, играла Н. А. Лысенко, играла так, что оторвать от нее Лаврецкого казалось просто невозможно. Блестящий, умный, эгоистичный Паншин в исполнении И. И. Мозжухина готов был ради женитьбы на скромной Лизе пожертвовать своей петербургской жизнью и карьерой. Б. С. Борисов создавал образ Лемма - большого музыканта, человечного, мудрого; и его постигла любовь к Лизе-поздняя и тем более сильная и трагичная. А рядом - Блюменталь-Тамарина в роли Марфы Тимофеевны, сама святая правда, человеческая совесть, женская мудрость, - потрясенная горем Лизы и ее решением идти в монастырь, она опускалась перед ней на колени.
Таким образом, Лиза становилась в спектакле как бы центром эмоционального напряжения всех персонажей. Но Елена Александровна и здесь оказалась достойной Лизой Калитиной - "незабываемой", как всегда говорили те, кому выпало счастье видеть ее в этой роли. И теперь уже московские зрители ломятся на спектакли, встречают актрису у подъезда, посвящают ей стихи и пишут благодарные послания.
Однако все это - успех, надежды, радость творчества - покоилось на шатком фундаменте. Шла первая мировая война. Ее воздействием постепенно стало определяться все, в том числе и театр. Сцену заполонили дешевые фарсы и мелодрамы. Зачем было задумываться о том неблагополучии, которое заявляло о себе ежедневными известиями с фронта? Не лучше ли погрузиться в эфемерные мечтания, иллюзию счастья? И серьезный репертуар, поднимающий важные общественные и нравственные проблемы, даже в лучших театрах Москвы и Петербурга сменяется легковесными поделками, рассчитанными на дешевый зрительский успех. Так и Полевицкой после лучших ролей прежнего репертуара, после Негиной в "Талантах и поклонниках", Катарины в "Укрощении строптивой", Веры в "Нечистой силе" А. Н. Толстого, Маргариты Готье в "Даме с камелиями", пришлось играть главные роли в таких пьесах, как "Вера Мирцева" Л. Н. Урванцева, "Черная пантера" В. К. Винниченко, "Мечта любви" А. Н. Косоротова.
Да, эти пьесы были чрезвычайно популярны. Бывает и так, что современный репертуар ценится прежде всего не за свои художественные качества, а за актуальность, даже если она мнимая. Возможность легкого узнавания, ощущение сегодняшнего факта, животрепещущей проблемы всегда привлекают зрителя, как и читателя. Лишь впоследствии история производит свой неумолимый отбор, отсеивая правденку и оставляя правду. Названные пьесы, быть может, никогда бы даже не упоминались в книгах, посвященных русскому дореволюционному театру, если бы не то обстоятельство, что творческое кредо Полевицкой, ее высшая актерская задача - оправдать и восславить женщину - и здесь одержали полную победу.
"Вера Мирцева", имевшая интригующий подзаголовок "Уголовное дело", литературными достоинствами не отличалась. Сюжет ее был одновременно мелодраматичен и детективен. Жена прокурора петербургского суда Вера Мирцева, никогда не любившая своего мужа, увлекается молодым адвокатом Жегиным. В роли Жегина Еыступал Н. М. Радин, не поскупившийся на этот раз ни на красоту, ни на обаяние для характеристики своего героя. Жегин бросает адвокатуру и хочет стать членом правления акционерного общества. Для этого ему требуется крупная сумма денег. Часть ее он уже получил от одной любовницы, другую надеется получить от Веры. Но у нее самой денег нет, они у мужа. Тогда Жегин угрожает показать мужу ее любовные письма. В момент ссоры она случайно убивает Жегина и, чтобы отвести от себя подозрение и создать видимость ограбления, уносит из его квартиры не только свои письма, но и деньги. Друг Жегина, некий Побряжин, опустившийся, ничтожный человек, у которого после смерти Жегина никого не остается, начинает преследовать Веру, желая выяснить, не знает ли она, кто убийца. В это время дело уже закрыто "за необнаружением преступника". Вера собирается уехать за границу, чтобы забыть обо всем кошмаре. Но слова Побряжина: "Скажите: это вы убили Жегина? Зачем? Он так хорошо о вас всегда отзывался" - вынуждают ее к признанию.

Е. А. Полевицкая и П. А. Марков в Рузе
Некоторые повороты сюжета напомнили Полевицкой "Последнюю жертву". Та же любовь к пустому и бесчестному человеку, та же готовность помочь, пожертвовать собой. И Полевнцкая снова стала плести тонкое кружево несчастной женской судьбы. Она играла женщину, подчинившуюся нечаянной любви, обреченную на обман, но сохранившую чувство собственного достоинства. Ее героиня была даже горда тем, что смогла убить возлюбленного, и теперь боролась с судьбой. Удивительный, психологически острый дуэт составляли Полевицкая и И. Н. Певцов, игравший Побряжина как возмездие, как голос совести. Актеры с честью вышли из мелодраматических тупиков драматургии, создав пьесе завидную сценическую репутацию.
То же самое произошло с другой пьесой подобного же рода - "Черной пантерой". Героиня пьесы танцовщица Рита позировала с ребенком на руках своему мужу, художнику Корнею Каневичу, для картины "Семейное счастье". Но в семье нет денег даже на лечение сына, и Рита настаивает, чтобы муж как можно скорее выставил картину или продал ее богатому критику Мулену. Художник отказывается продать картину, тем более незаконченную, а Мулену более по вкусу "натурщица". Каневич, которого друзья прозвали "Белый медведь", проводит время с удачливой поэтессой - Снежинкой, и она убеждает его в том, что художник должен быть выше семьи и принадлежать только искусству.
Кульминация отношений наступает в кабаре, где случайно встречаются обе пары. Рита, желая возбудить ревность мужа, танцует вакхический "танец апашей", а затем вступает в картежную игру и ставит на кон свою честь. Мулен выигрывает, но ненадолго. Муж отыгрывает ее, и супруги возвращаются домой. Здесь Риту ожидают два удара: умирает ребенок, простудившийся во время позирования, а муж упрекает ее в том, что она не "использовала" Мулена и не сумела в его обществе "заработать" денег. Рита навсегда уходит из дому в кабаре, но вдруг снова встречает Каневича со снежинкой. Не в силах вынести этого, она убивает и его и себя.
На протяжении всего спектакля вопреки жестоким испытаниям, выпавшим на долю Риты, Полевицкая играла ее целомудрие и достоинство, бесконечную преданность и любовь к мужу. Даже в ее знаменитом "танце апашей" не было ни следа цинизма или непристойности; напротив, именно в нем она демонстрировала свою чистоту, красоту и силу - ведь она танцевала для мужа.
Роль Риты требовала от актрисы большого напряжения. Сама Полевицкая в письме к Г. Н. Федотовой признавалась, что в "Черной пантере" - "роль громадной физической трудности. Беснуется она с первого появления до последнего, вся на нерве, на людей бросается. А II акт - танец апашей и непосредственно за танцем монологи без малейшей мысли об экономии сил актрисы, о физической возможности подымать нерв еще и еще. Очень боялась, но, слава богу, этот экзамен перед собой выдержала - и дыхание, и сердце - всего хватило"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 2745, оп. 1, ед. хр. 183, л. 5-6.)
Труднее всего было проводить сцену отчаяния Риты в момент смерти ребенка. Но вопль, раздававшийся в этот момент, не забыл ни один из тех, кто хоть раз слышал его.
Огромный успех имела Полевицкая и в "Мечте любви". Это было последнее произведение малоизвестного драматурга, который запутался в долгах, сомнениях, разочарованиях и незадолго до того покончил с собой, оставив предсмертную записку: "Теперь же вправляю петлю на шею, толкаю стул ногой и ныряю в бесконечность!"*.
* (Цит. по: Ходотов Н. Н. Близкое - далекое. Л.- М., "Искусство", 1962, с. 240.)
Центральная мужская роль была написана специально для Н. Н. Ходотова, который сыграл ее с Полевицкой на гастролях в Харькове в 1916 году. Здесь же, в Москве, партнером Полевицкой снова был Н. М. Радин. Его герой, Луганский, в парижском кафешантане полушутя-полусерьезно предлагает шансонетке Мари Шарден - Полевицкой в первый же вечер их знакомства стать его женой. И она, так же полушутя-полусерьезно, соглашается, но только... на один месяц. Проходит месяц безоблачного счастья. Луганский давно забыл о нелепом условии Мари, но точно в назначенный час она от него уходит. Она не верит больше в истинную любовь - дважды она искренне любила и оба раза была обманута. Она старается убедить себя, что в любовь можно лишь играть, хотя в глубине души понимает, что теперь она играет эту "игру", это условие, эту ложную необходимость ухода от любви настоящей, быть может единственной.
В сцене прощания Мари с Луганским Полевицкая изображала целую гамму чувств: благодарность за месяц счастья, неверие в возможность его продолжения, горе от разлуки, притворство и кокетничанье собственной "продажностью". Мари возвращается в кафешантан. Луганский в последний раз пытается вернуть ее, и снова у нее не хватает сил поверить в невозможное - она цинично и пьяно прогоняет его. Человек мягкий и безвольный, он подчиняется и уходит, забыв при этом цилиндр и перчатки. Наступает длинная немая сцена - финал спектакля. Едва ушел Луганский, Мари, стряхнув с себя напускную развязность, падает в кресло, жалкая, беспомощная. Механически берет бокал с недопитым вином и вдруг видит на рояле цилиндр Луганского. Значит, он еще может вернуться, значит, счастье еще возможно... Мари застывает в напряжении, взгляд прикован к роялю. В дверь робко постучали, она, расплескав вино, бросает бокал и уже готова вскочить, кинуться навстречу, молить о прощении... Но на пороге лакей. Он беззвучно проходит по ковру через комнату, берет вещи Луганского. Вся жизнь Мари сосредоточена на этом цилиндре и перчатках - единственном, что у нее еще осталось. Лакей так же беззвучно удаляется. А вместе с ним - и последняя надежда. Мари снова съеживается в кресле, плечи ее опускаются, глаза тускнеют, наполняются слезами, рука непроизвольно тянется к бокалу... За две-три минуты сценического времени Полевицкая переживала несколько психологических состояний своей героини.
Когда счастливцы, побывавшие на этом спектакле, спустя пятьдесят лет начинают рассказывать о нем, они воспроизводят исполнение Полевицкой вплоть до мельчайших деталей - "повернула голову", "посмотрела с грустью ему в глаза", "скрестила руки на груди", "едва заметно улыбнулась" и т. д. Видимо, так сильно было впечатление от игры Полевицкой - даже в "Мечте любви", даже в "Вере Мирцевой", - что ни одну подробность ее сценического поведения не стерли годы. И дело здесь не только в красоте актрисы, в отточенности ее техники, а в глубине чувств, оправданности всех действий, правдивости характера - как "человеческого духа роли". И еще - в многозначности каждого образа, созданного Полевицкой.
Любовь очистила Мари Шарден, и Полевицкая играет нежную, целомудренную женщину, так же контрастирующую с пошлостью кафешантана, как контрастирует ее белоснежное платье с темно-красными стенами отдельного кабинета. Мари одинока, она прекрасно чувствует собственную опустошенность и пустоту окружающего ее быта. Но смеет ли она даже мечтать о любви, о семье, о счастье? Добиться благополучия и душевного покоя... Но какой ценой? Все поведение Мари выражает невозможность компромисса, ни для себя, ни для любимого. Могла ли она поверить в то, что их отношения, так случайно и несерьезно возникшие, для него, этого милого, доброго человека с русой бородкой и лучистыми глазами, не тягостная обуза? И поэтому она отказывалась соединиться с ним. Полевицкая делала зримыми все сомнения Мари, все ее переживания и вынужденные хитрости. Давала она и развитие характера - от вакхического веселья при первом появлении до трагической обреченности в финале. Женщина, способная усомниться в своем праве на счастье и потому готовая отказаться от него, во все времена считалась образцом высокой нравственности, примером требовательности к себе. Эта идея была так психологически тщательно разработана Полевицкой, что решение Мари Шарден воспринималось зрителями почти как нравственный подвиг. Вот почему спектакль имел такой широкий общественный резонанс и зрительский успех. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что пьеса Косоротова в предреволюционные годы обошла буквально всю провинцию.
Очень активно работал в театре Шмит. Он поставил здесь такие спектакли, как "Пигмалион" (первая постановка на русской сцене), "Укрощение строптивой", "Вера Мирцева", "Мечта любви" и - вместе с Саниным - "Король, закон и свобода" Андреева. В последней пьесе, написанной в октябре 1914 года и выражающей ура-патриотические чувства, Полсвицкая сыграла жену Меттерниха.
Творческая судьба Полевицкой и Шмита в Москве обещала поначалу быть счастливой. Они - актриса и режиссер - несли значительную долю репертуара, снискали любовь и уважение публики, - доказательством служили не только аншлаги: вокруг Полевицкой создалась та особая атмосфера признательности и поклонения, которой издавна славен русский театр.
Сам театр Суходольских занял прочное место в художественной жизни Москвы. Он выдержал конкуренцию с известными частными театрами Корша и Незлобина, которые к тому времени окончательно растеряли свои художественные достоинства. С. Бронштейн вспоминает: "Когда, возвратившись в Москву после полугодового отсутствия, я ехал со своим приятелем на извозчике, он сообщил мне, что па развалинах бывшего Свободного театра его владелица, помещица Суходольская, организовала Московский драматический театр, собрав первоклассную труппу, и удивляет Москву такими спектаклями, что "забудешь твой Художественный"*. П. А. Марков также пишет о том, что Московский драматический театр обладал "прекрасными актерами и отличным ансамблем. "Нечистую силу" Алексея Толстого играли блестяще, лучше не сыграешь, по чувству стиля и образа. Театр давал хорошие ансамблевые спектакли с определенной четкой режиссерской техникой"**.
* (Бронштейн С. Герои одного мгновения. Воспоминания зрителя, с. 135-136.)
** (Марков П. А. О театре, т. 1. М., "Искусство", 1974, с. 327.)
К этому же периоду относится и вовлечение Полевицкой в орбиту кинематографа, только начинающего заявлять о себе в русской культуре. Вместе с актером Малого театра В. А. Полонским, ставшим "звездой" русского немого дореволюционного кино, она снимается в 1916 году в фильме А. Ханжонкова "Ошибка сердца", одной из тогдашних киномело драм, искусно выжимавших слезу из чувствительного зрителя.
Полевицкая и Шмит обрели в Москве интересную работу и прочное положение, добрых друзей и уютную квартиру на Рождественском бульваре, в которой не раз находили радушный прием дорогие их сердцу люди - Н. Н. Синельников, Л. Н. Андреев, Б. М. Кустодиев. В последний раз Кустодиев жил у них, будучи уже парализованным, передвигался на костылях. И все же продолжал работать делал оформление к спектаклю Художественного театра "Осенние скрипки". И снова писал портрет Полевицкой - пастелью на картоне. Позируя, она, одетая в черное платье, садилась в глубокое темносинее кресло у окна, и художник давал ей в руки красные розы, а на правый подлокотник кидал испанскую шаль вишневого цвета с тяжелой бахромой. Фоном служили обои "под ситец", синие с мелкими розочками. Когда портрет был готов, Кустодиев сам заказал раму и подарил его Полевицкой. К сожалению, судьба портрета неизвестна.
У супругов зрело желание остаться в Москве навсегда. Беда пришла как раз оттуда, откуда ждали радость. Дело в том, что Леонид Андреев не забыл своего обещания написать пьесу специально для Полевицкой. В сентябре 1915 года он сообщил ей: "Подписался, поставил последнюю точку - пиеса готова. Автору, даже столь многоопытному, трудно судить, что за детище у него уродилось, но, думается, что вышло достаточно ладно. Задача же моя была такая: дать сравнительно легкую, чистую и красивую пиесу, которая и приятно игралась бы и смотрелась бы с удовольствием... А было и другое задание, о котором я писал Вам еще в прошлом году: соорудить нечто для Вас - такое, в чем мог бы достаточно полно выразиться Ваш талант, как я его понимаю. Образ женщины чистой и прекрасной... И если весь театр не влюбится в Вас (это должно быть!), то я просто перестал понимать и театр и публику"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 2745, оп. 1, ед. хр. 206, л. 1.)
Тотчас же пьеса - "Тот, кто получает пощечины" - была вручена театру.
В этом сложном и противоречивом произведении соседствовали реалистическое изображение циркового быта и абстрактно-философские символы, трагизм и гротеск, сокровенные авторские мысли и театральная условность. Однако все это странное нагромождение зиждилось на таком увлекательном мелодраматическом сюжетном стержне, что и поныне к этой пьесе Леонида Андреева устремлены помыслы режиссеров.
В центре пьесы - красавица Консуэлла, цирковая наездница, значащаяся в афише как "Царица танго на конях". Но царица она - только на арене, а в жизни - существо хрупкое и трогательно беззащитное. Она боготворит отца, опустившегося и разорившегося графа Манчини, не подозревая, что он вовсе не отец ей, а человек, который взял ее на воспитание в расчете потом выгодно торговать ею. И вот этот момент наступил. Манчини нашел богатого покупателя, барона Реньяра, и сделка близится к завершению. В цирке нет равнодушных к судьбе Консуэллы - все любят ее. Сюжетной пружиной становится появление на арене странного господина, избравшего для себя жестокое клоунское амплуа "Того, кто получает пощечины". Тот - вершитель судеб, ниспровергатель буржуазных законов, носитель справедливости. Напрасно он взывает к чистоте Консуэллы, к остаткам совести Манчнни, к любви жокея Безано. Жизнь Консуэллы решена. И тогда Тот выбирает смерть. И для нее и для себя. Они оба умирают, не запятнав себя компромиссом, смирением, позором.
После читки пьесы Санин сказал Шмиту по телефону: "Пьеса мне нравится. Я знаю, что сейчас твоя очередь ставить спектакль, но я главный режиссер, а ты здесь работаешь благодаря мне". Шмит ответил ему запиской: "Милый Саша, ты сегодня напомнил мне во время нашего телефонного разговора, что в театр я попал благодаря тебе. Это одно уже служит достаточным поводом, чтобы я не предъявлял никаких претензий на пьесу Андреева, раз ты ее очень хочешь ставить. Жму руку. И. Шмит".
И Санин принялся за дело. Центральную роль он отдал В. Л. Юреневой, а Полевицкой досталась роль укротительницы львов Зиниды. Уже одно это определило трактовку пьесы-ярость страстей циркового быта, стремительное развитие сюжета, мелодраматический накал, кульминация - "танго на конях".
До Андреева доходят слухи об этом. "И даже, будто бы, мелькнула у кого-то мысль (для меня - кощунственная), что для Вас подходит больше Зинида", - пишет он. И продолжает настаивать: "Если Тот будет на сцене не тот, - получится, конечно, плохая, но понятная пьеса. Если же Консуэлла будет не та, то при великолепии всего остального пьеса останется непонятною, сочиненною, немотивированной. Чтобы убить Консуэллу и себя убить, убить из-за Консуэллы, надобно хорошую Консуэллу... И если не Вы, то кто же может одухотворить ее?"*.
* (Там же, л. 2-4.)
Автор взывает и к Дуван-Торцову, объясняя ему что в этой пьесе он выступает против опошления любви в модных тогда произведениях Арцыбашева и Сургучева, желая противопоставить им любовь "высокую и строгую, печальную и романтичную, какою и должна быть всякая истинная любовь. Такой ведь она и остается, только эти наши половых проблем мастера сумели сверху замарать ее своей нечистой мыслью"*.
* (Цит. по: Андреев Л. Пьесы. М., "Искусство", 1959, с. 581.)
Полевицкая, чувствуя полное бессилие, откровенно рассказала в письме Андрееву о ситуации, сложившейся в театре*. Обеспокоенный Андреев приехал в Москву. Состоялось совещание, на котором ясно определились две точки зрения на пьесу. Санин заявил, что хочет поставить ее "ураганом, который будет длиться два вечера подряд", и что главную роль должна играть Юренева, потому что она "искусная наездница и циркачка по натуре". Шмит понимал пьесу совсем иначе: это не "ураган", а серьезная драма, даже трагедия, с большим философским смыслом. Цирк - просто фон, место действия. Юренева, конечно, прекрасная актриса, с этим никто не спорит, но совсем на другие роли - ярких, сладострастных женщин. Чистоты и трогательности в ее образах не бывает, а Консуэлла - это же чистая, заблудившаяся на земле богиня, и "танго на конях" - случайная профессия для нее. Сама Полевицкая считала себя недостаточно хрупкой для этой роли, ей в роли Консуэллы виделась Комиссаржевская.
* (ЦГАЛИ, ф. 11, оп. 1, ед. хр. 179, микрофильм.)
Андреев категорически настоял на том, чтобы пьесу ставил Шмит, а Консуэллу играла Полевицкая. С этого момента драматург внимательно следит за работой над спектаклем.
В архиве В. Л. Андреева сохранились письма Л. Н. Андреева к И. Э. Дуван-Торцову.
"Чем может стать на сцене Консуэлла, это вопрос факта, а я скажу, чем она должна быть, - писал он в одном из них.- Прежде всего по внешности она должна быть богиней - по точному смыслу законов классической красоты. Высокий рост, стройность, правильные и строгие черты, смягченные выражением почти детской наивности и прелести; все цирковое и пошлое, начиная костюмом и кончая словечками и некоторой вульгарностью выходок, - все это только на поверхности, внешнее. И это одна из важнейших задач артистки и режиссера: показать богиню под мишурой наездницы и акробатки.
Со стороны характера, психики - Консуэлла возвышенна, чиста и бессознательно трагична. Последнее очень важно. И это не внешний драматизм пышной Зиниды, а глубокий и истинный трагизм, создаваемый противоречием между божественной сущностью Консуэллы и ее внешним случайным выражением. Она в плену у жизни, она порабощена тяжелой реальностью, силою вещей - и она страдает. До появления Тота она находилась как бы во сне - он разбудил ее; и тот момент, когда она хочет припомнить свою родину, небо и не может, полон для нее величайшей скорби. В этом смысле, по силе трагических переживаний, возрастающих к четвертому акту, она не менее героиня, нежели Катерина в "Грозе".
Нет ничего легче драмы, в которой все снаружи: в движении, крике, слезах, воплях, в ясной видимости драматических столкновений, - и страшно велика трудность этой роли, где вся трагичность внешне основана на полутонах, на вздохе, на улыбке, на выражении печали в лице и глазах, где душа скрыта от самого переживающего"*.
* (Цит. по: Андреев Л. Пьесы, с. 581.)
Из этого длинного комментария писателя видно, насколько соответствует его замысел возможностям и творческому облику Полевицкой. Не случайно копию письма он послал и самой актрисе - 28 сентября. Нет сомнения, что уже в момент создания пьесы он ясно видел перед собой ту, для кого эта роль предназначалась.
Именно такой Полевицкая и сыграла Консуэллу. По отзывам современников, при первом же ее появлении зрительный зал погружался как бы в оцепенение.
Вот она - эта закутанная в белое богиня, неведомым образом попавшая за пропыленные цирковые кулисы. Огромные глаза взирают на мир с наивным любопытством, но они не умеют видеть и понимать. Поэтому ложь и продажность окружающих не задевают Консуэллу, впрочем, так же как любовь и заботы близких. И события, даже непосредственно касающиеся ее судьбы, проходят мимо. Полевицкая воплотила в своей Консуэлле ту иллюзорную связь реальности с потусторонним, которой отличается это произведение Андреева, где каждый человек, при живой своей плоти, в то же время и маска, символ, носитель идеи. Искренность и одухотворенность актрисы заставляли забывать об искусственном соединении реального и условного в пьесе, не замечать надуманности ситуации, верить и в отношения Консуэллы с Тотом и в неминуемую ее гибель. Абстрактность своеобразного бунтарства Тота в результате находила конкретный выход: в подобном обществе на место чистой и прекрасной богине, "белой пене морской", поэтому она должна погибнуть, "улететь к солнцу". Она так и умирает, плача и улыбаясь, еще не расставшись с детством, с морем, не узнав, что в мире существуют интриги, зло, коварство.
Премьера состоялась 27 октября 1915 года. Среди исполнителей были: И. Н. Певцов-Тот, Н. М. Радин-Манчини, И. Э. Дуван-Торцов - барон Реньяр, Б. С. Борисов - Брике, А. П. Морозова - Липида, О. Н. Фрелих - Безано.
Санин не мог спокойно пережить своего поражения. Спустя некоторое время он обратился к Шмиту со странной просьбой:
- Послушай, Ванечка, золотая голова, адвокат гениальный, зачем нам с тобой в этом театре нужен директор-администратор Дуван-Торцов? Ведь он ничего не понимает. Он же полный дурак, ты только посмотри, как сама природа это определила. Его зовут Ишак Эзрович, да еще прибавлено Дуван. Потюркски "дуван" значит "болван", так куда же он лезет? Давай уберем его и будем вместе работать на пользу родины.
- Оставь меня в покое со своими болезненными привычками к интриге, - ответил Шмит.- Я знаю прежние твои провалы в этом направлении. Никогда ни на что подобное ты от меня согласия не получишь.
- Не хочешь - как хочешь, - обиженно сказал Санин и отправился к Дуван-Торцову.- Послушай, Исаак Эзрович, директор гениальный, зачем нам Шмит? У нас война с немцами, давай его уберем, он же Вильгельм II.
Слухи об интриге Санина быстро дошли до Шмита и Полевицкой. Актриса, болезненно ранимая во всем, что касалось лжи, закулисных сплетен, нравственной нечистоплотности, начала терять голос. Сначала у нее во время спектакля перехватывало горло, затем возникли резкие боли в голосовых связках, ее душил кашель. После приступа кашля она заканчивала акт почти шепотом. Играть приходилось по шесть раз в неделю да еще - репетировать по утрам.
Однажды поздно вечером после очередного спектакля в квартире на Рождественском бульваре раздался телефонный звонок:
- С вами говорит врач Иосиф Александрович Кунин. Вы меня не знаете, но я очень люблю вас как актрису и постоянно бываю на ваших спектаклях. Сейчас вам грозит опасность потерять голос, разрешите мне к вам приехать.
Осмотрев Полевицкую, он повез ее к известному московскому отоларингологу профессору А. И. Фельдману и сообщил ему свой диагноз: парез голосовых мышц с образованием звуковой щели при фонации.
- Вы правы, - сказал профессор, - и это грозит полной потерей голоса.- Он повернулся к Полевицкой: - Я знаю вас по сцене и охотно буду лечить, но только при условии, что три месяца вы будете молчать.
Полевицкая позвонила Дуван-Торцову и рассказала ему о своем несчастье. В ответ она услышала:
- Да, трудное положение. Но я сразу ничего решить не могу, мне нужно с этим ночь переспать.
Наутро был вывешен репертуар. Полевицкая оказывалась занята десять вечеров подряд, затем один вечер свободный и снова восемь спектаклей подряд. Полевицкая поняла: в театре ей объявлена война. Когда на следующий день приехал Кунин, она была в отчаянии. Оба долго молчали. Затем он сказал:
- Это подло, конечно. Но не надо падать духом. Я не дам вам погибнуть. Буду приезжать каждый день и заниматься с вами столько, сколько у вас найдется времени перед спектаклем, - пятнадцать минут, полтора часа, все равно. Не бросайте театра.
Ни слова больше не сказав Дуван-Торцову, ни о чем не попросив, ни на что не пожаловавшись, Полевицкая играет весь намеченный репертуар. И каждый день занимается с Куниным, тренируя голосовые связки. Его метод лечения выглядел странно: он садился за рояль и играл гаммы, а она мысленно, про себя, беззвучно пела их, выдувая воздух через гусиное перышко. Перед каждым спектаклем он играл по-разному, словно настраивая ее как музыкальный инструмент, ибо роли актрисы были различны и по тональности и по темпераменту.
Он заставлял ее мобилизовать в дыхании всю мышечную силу связок, так что она потом без труда могла произносить длинные монологи. Это походило на гипноз, но ни на одном спектакле она больше не потеряла голоса. Когда через два месяца по просьбе Кунина ее осмотрел профессор Фельдман, он подивился результатам этих не известных даже ему упражнений.
Скрытые интриги на этот раз не удались Санину. Тогда он пошел более откровенным путем - распространил слух, что Шмит пытается занять место директора-администратора, хотя тот за два сезона уже четыре раза категорически отказывался от этого предложения Суходольских.
И, наконец, по театру был просто пущен подписной лист с требованием убрать из труппы Шмита и Полевицкую. Дело дошло до того, что М. М. Блюменталь-Тамарина, чистейший и добрейший человек, всегда уравновешенный и далекий от каких бы то ни было интриг, однажды, пообещав приехать к Полевицкой, вдруг позвонила ей чуть ли не в истерике:
- Оставьте меня, я не принадлежу ни к какой группе, я ничей порог не переступлю.
Пребывание в театре становилось для актрисы нестерпимым. Именно в этот момент в Москве появился Синельников. Он приехал за пополнением для своих харьковской и киевской трупп. И Полевицкая бросилась к Синельникову как к спасителю:
- Возьмите меня из этой клоаки, я больше не могу!
Все было решено за полчаса:Полевицкая и Шмит ликвидируют свои московские дела и отправляются к Синельникову на сезоны 1916-1917/18 годов, первый в Киеве, второй в Харькове, с выездами в Одессу и Ростов. Так неожиданно окончилось пребывание Полевицкой и Шмита в полюбившейся им Москве.
Спустя некоторое время, когда стало известно, что Полевицкая уезжает, она получила одновременно четыре приглашения - от Суходольских, лично просивших ее вернуться в их театр, от Малого театра, от театров Корша и Незлобнна. Но Полевицкая всем ответила кратко и однозначно: "Благодарю, занята".
К тому времени она была уже достаточно зрелым художником, умевшим разбираться во всех "за" и "против" театров столичных и провинциальных, казенных и частных. Она не стремилась больше в Александринский театр, по-прежнему остававшийся в стороне от общественного движения, не создавший единого стиля и прочных традиций, раздираемый противоречиями. Она познала дух мелкого соперничества, зависти и меркантильности, царивший во многих частных театрах. И вместе с тем разглядела за пресловутым бытом пропыленных кулис провинциального театра художественную и нравственную стойкость, большие творческие возможности. Впрочем, всякое дело определяют реальные люди. И тут и там были свои Санины и свои Синельниковы. Полевицкая устремилась к Синельникову. И была вознаграждена.
В эти два сезона Полевицкая помимо прекрасных ролей, большого успеха и громадного творческого удовлетворения имела счастье играть с такими первоклассными партнерами, как актеры Александрин- ского театра В. Н. Давыдов и Н. Н. Ходотов.

Е. А. Полевицкая выступает на вечере памяти В. Ф. Комиссаржевской в Доме актера 22 февраля 1960 г.
На приглашение Синельникова провести один сезон в его киевской труппе Ходотов откликнулся с удовольствием. Он был недоволен порядками императорского театра, его стабильно косным репертуаром. Захотелось поиграть в иных пьесах, с иными актерами. Однако Ходотов, решивший "осчастливить" провинциального зрителя, никак не предполагал, что встретится с такой сильной труппой.
Полевицкая рассказывала, как на одном из первых спектаклей, играя с Ходотовым, она вдруг почувствовала полное отсутствие общения с партнером. На мгновение ей показалось, что она на сцене одна, хотя Ходотов сидел тут же, рядом. Оказывается, его настолько поразила игра Полевицкой, с которой он раньше не встречался, что он как бы превратился в зрителя. Это превращение стало для Полевицкой тяжелым испытанием, она была растеряна, выбита из образа, из настроения сцены. Но через минуту он овладел собой, покорился партнерше, принял ее на равных, и с этого момента у них на все последующие спектакли установилось органичное сценическое общение.
В конце сезона Ходотов, человек открытого и доверчивого характера, признался, что прежде знал только одну такую партнершу, Веру Федоровну Комиссаржевскую, и никак не рассчитывал обрести нечто подобное на сцене театра Синельникова. Об этом удивительном общении говорила и Полевицкая: "Работая дальше с Николаем Николаевичем Ходотовым, мы оба убедились, что мы очень гармоничные партнеры. Бывает - поют два голоса дуэт, но это не звучит дуэтом, просто поют два голоса рядом друг с другом, а бывает - два голоса сливаются в один общий звук, одно дыхание. Так было и у нас с Николаем Николаевичем Ходотовым. Мы были настоящим, от природы сливающимся мелодией друг с другом дуэтом".
Такими дуэтами стали, например, Гедда и Левборг в "Гедде Габлер" Ибсена, Негина и Мелузов в "Талантах и поклонниках" Островского. Единую тональность Полевицкая и Ходотов обретали сразу же на читке пьесы, и это помогало совершенствованию мастерства, овладению ролями, - на репетиции их сцен им требовалось гораздо меньше времени, чем другим актерам.
Полевицкая играла с многими крупнейшими актерами - С. Л. Кузнецовым, В. Н. Давыдовым, Н. М. Радиным, М. М. Блюменталь-Тамариной и другими, - но такого полного сценического единения, как с Ходотовым, она не ощущала больше ни с кем.
В феврале 1917 года Ходотов вернулся на александрийскую сцену, но уже в мае на гастролях синельниковской труппы в Ростове выступал вместе с Полевицкой в "Вере Мирцевой" в роли мужа Веры. Успех оказался настолько велик, что помещение цирка, в котором тогда шли спектакли, всегда было заполнено.
Интересно проходили в Харькове спектакли с участием В. Н. Давыдова, который при первой встрече с Полевицкой смотрел на нее восхищенно и озадаченно, а потом отозвался так: "Артистическими талантами еще не оскудела русская провинция, и Полевицкая новая яркая звезда, которую я с огромной радостью увидел в первый раз, - тому доказательство*.
* (Цит. по: Вахрушева Е. А. Дорога исканий. Рига, Лат-Госиздат, 1958, с. 83. )
Труппа Синельникова, как всегда, гастролировала и по другим городам России. Во время гастролей в Одессе бенефисный спектакль Полевицкой "Таланты и поклонники" вызвался поставить А.П. Петровский. Сам он сыграл Нарокова. А после спектакля на сцену вынесли лавровый венок с лентой, на которой была надпись: "Моей гордости, моей славе. Андрей Петровский - Елене Полевицкой"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 2745, оп. 1, ед. хр. 99, л. 15.)
В конце февраля 1917 года репетицию неожиданно прервал знакомый журналист, прибежавший из редакции с криком: "В Петрограде революция!" Началось неистовое ликование. Зрительный зал почему-то стал наполняться публикой. Давыдов подошел к рампе, начал вспоминать свою молодость, студенческие годы и вдруг запел революционные песни. Зрители бросились на сцену, подхватили его на руки и вынесли на улицу, а он, смеясь и плача, продолжал петь. Полевицкая, участвовавшая в этой торжественной процессии, не находя выхода охватившим ее чувствам, подошла к актрисе 3. Н. Минаевой и воскликнула: "Зина, перейдем на "ты"!"
На следующий день повторилось то же самое. Во время репетиции вбежал, запыхавшись, М. М. Тарханов и сказал: "Армия отреклась от Николая, все на улице, идем встречать войска!" И актеры опять отправились на улицу.
В театре, охваченном революционным энтузиазмом, начали срочно искать новый репертуар. За неимением соответствующей отечественной драматургии Шмит предложил несколько пьес классической или современной западной драматургии. Остановились на второй части драмы Бьёрнстьерне Бьёрнсона "Свыше наших сил". Дилогия эта была достаточно хорошо известна в России, первая ее часть уже выдержала пять изданий на русском языке, вторая, несмотря на запреты цензуры, была издана в 1907 году.
Известный деятель германского рабочего движения историк и публицист Франц Меринг писал о ней в 1900 году: "Конечно, Бьёрнсон имеет весьма странные представления о средствах разрешения социального вопроса... Но рабочее собрание в первом акте, переговоры между рабочей депутацией и фабрикантом Хольгером во втором, прения фабрикантов в третьем - все это свидетельства в своем роде мастерского дара наблюдения и изображения. Мы не знаем даже, что можно сравнить с драмой Бьёрнсона в современной драматической литературе; она является крупным прогрессом даже в сравнении с "Ткачами" Гауптмана, которые показывают нам только первые начатки того, что Бьёрнсон сумел изобразить уже в значительно более высокой исторической фазе развития"*.
* (Меринг Ф. Литературно-критические статьи, т. 2. М.- Л., "Academia", 1934, с. 285-286.)
Если первая часть дилогии была посвящена проблеме крушения богоискательства, то во второй части норвежский драматург пытается определить пути борьбы рабочих с царством деспотизма и капитала. Герой пьесы Элиас Санг, сторонник индивидуального террора, взрывает дворец фабриканта Хольгера в тот момент, когда там происходит совещание фабрикантов страны, и при этом погибает сам. И хотя далее провозглашается путь морального перевоспитания общества, который избирает после смерти Элиаса его сестра Ракел, пьеса проникнута идеями борьбы за демократию и социальную справедливость.
Спектакль был поставлен в бенефис Виктора Петипа, как яркое зрелищное действо. Глубокое ущелье, окруженное угрюмыми скалами, по которым стекает вода, полуразрушенные жилища рабочих и мрачная похоронная процессия - такова безрадостная картина жизни трудящегося люда. И по контрасту - пышный зал дворца, разукрашенный флагами, коврами, зеленью. Многоголосье жадных, расчетливых, деспотичных фабрикантов - и взрыв, покрывший дымом, гарью и пеплом все происходящее. И ощущение вечного покоя и вечной человеческой надежды на спасение в финале, когда Ракел - Полевицкая, сидя на балюстраде в большом тенистом парке, произносит свой знаменитый монолог об ужасах насилия, войны. "А вокруг столько солнца. Весна... Как будто природа хочет сказать нам: позор, позор! Вы пачкаете кровью листву моих деревьев, вы нарушаете мои песни предсмертными криками и хрипением. Вы оглашаете воздух воплями и стонами. Вот что говорит нам природа. Вы оскверняете даже весну!.. Посредине вечного сияния человечество создало ад, и этот ад всегда полон обитателями. То, что должно было быть совершенством, превратилось в отбросы и стало проклятием".
А потом под звуки торжественной музыки, словно возникающей из-под земли, Ракел услышит о светлом будущем человечества, "когда платья можно будет делать из листьев травы, шелка - без шелковичных червей, шерсть - без овец, когда дома будут обходиться раз в двадцать дешевле, а отопление станет даровым... Когда мы откроем способ сверлить скалы так же дешево, как землю, когда рельсы начнут делать из более дешевых материалов, чем железо, когда добывать железо станет легче, когда силовая энергия почти ничего не будет стоить... проезд будет совершенно бесплатный... Тогда как бы не будет расстояний... Сколько появится новых открытий! И как возрастет благосостояние!"
Эти во многом пророческие слова казались такой великой и теперь уже близкой действительностью, что зрители вскакивали с мест, выкрикивали революционные лозунги и спектакль стихийно перерастал в митинг.
Персонажи пьесы воспринимались столь горячо, что не было уже ни Петипа, ни Полевицкой - актеров вызывали криками: "Элиас, браво!", "Браво, Ракел!"
Примерно в такой же атмосфере шел и следующий спектакль - "Савва" Л. Андреева. Однако здесь на долю Полевицкой, игравшей роль сестры Саввы, экстатичной христианки Олимпиады, выпало совсем иное отношение. Ее громко стыдили, выражали свое презрение. Новый зритель, хлынувший в театр, еще не мог отделить личность актера от исполняемого им образа.
Прогрессивная деятельность Синельникова и его труппы была сразу же оценена советской властью после победы Великой Октябрьской социалистической революции. 22 января 1918 года Исполнительный комитет Харьковского Совета рабочих и солдатских депутатов издал постановление: "Харьковский драматический театр является одним из культурно-просветительных учреждений и своим художественным успехом и безупречной постановкой дела в этом театре является одним из лучших на юге России. По своему назначению и по тем дешевым ценам на места, которые существуют в этом театре, он питает культурные интересы неимущих масс, в большинстве случаев рабочих и учащейся молодежи. Ввиду этого драматический театр не должен прерывать свое функционирование"*.
* (Цит. по: Слонова Н. Николай Николаевич Синельников. М., "Искусство", 1956, с. 81.)
В поисках нового репертуара театр обращается к пьесам яркого общественного звучания, таким, как "Королевский брадобрей" Луначарского, "Доктор Штокман" Ибсена, "Женитьба Фигаро" Бомарше, "Король" Юшкевича.
А. В. Луначарский прислал Синельникову предложение возглавить Александринский театр и пополнить его труппу лучшими своими актерами. Выбор Синельникова пал на Полевицкую, Радина, Шатрову, Тарханова, Медведеву, Барова. Уже подписаны контракты, в Петрограде подготовлены квартиры, в Харьков должен прибыть за Синельниковым с актерами специальный вагон. Но в город неожиданно входят белые. Белогвардейская газета "Родина" начинает травлю Синельникова за "коммунистический репертуар". Его заставляют дать подписку о невыезде. Контрразведка арестовывает актера Барова, игравшего роль "королевского брадобрея". Большинство актеров разъезжается по другим городам. Сам Синельников тяжело заболевает и с трудом добивается пропуска, чтобы уехать на лечение в Кисловодск.
Полевицкая еще раньше пыталась перебраться в Москву или Петроград. И счастливый случай представился. В конце 1917 года Корш, прекратив антрепризу, продал свой театр М. М. Шлуглейту. Тот предложил Н. М. Радину возглавить новый театральный коллектив, причем предоставил ему полную свободу действий. Радин с радостью согласился. Он мечтал создать некое "царство творческих актерских сил", лишенное всяческих коммерческих соображений, как сообщил он Полевицкой. На место главного режиссера Радин выбрал А. П. Петровского, пригласил также А. А. Санина, В. Г. Сахновского и А. Д. Дикого. Затем он обратился к драматургам - Л. Н. Андрееву, А. Н. Толстому, С. А. Найденову и другим - с просьбой прислать в театр их последние пьесы. И после этого взялся за формирование труппы. Ему удалось создать блистательный коллектив. В него вошли такие известные актеры, как М. М. Блюменталь-Тамарина, Е. М. Шатрова, В. Н. Пашенная, В. Н. Попова, В.Л. Юренева, М. М. Климов, Н. Л. Коновалов, A. П. Кторов, М. Ф. Ленин, С. Б. Межинский, B. О. Топорков.
В числе первых Радин подумал и о Полевицкой. "В этом театре, - писал он ей 21 февраля 1918 года, - при создавшихся условиях Вы найдете и внутреннее и внешнее содержание, которое даст Вам возможность спокойно, мирно, но молодо и горячо служить нашему актерскому делу. Я не вижу сейчас ни одной сцены, где Вы могли бы найти более полное удовлетворение своим художественным стремлениям, и потому убежден, что, откликнувшись благожелательно на наш зов, Вы никогда не раскаетесь. Само собой разумеется, что дирекция пойдет во всем навстречу Вашим художественным желаниям в смысле репертуара"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 2313, оп. 1, ед. хр. 83, л. 48.)
Работать у Радина и вместе с ним? С радостью! В следующем письме, от 28 февраля, Радин уже советуется с ней по поводу репертуара: "...Было бы очень желательно, если бы в возможно скором времени сообщили бы Ваши предположения на этот счет. Что у Вас есть интересного для себя? Как Вы думаете о "Грозе"? Напишите, пожалуйста, - напишу и я, лишь только мы вырешим определенно первые пьесы"*.
* (Там же, ед. хр. 392, л. 1.)
В московской театральной прессе уже появились такие сообщения: "В антрепризу М. М. Шлуглейта подписала [контракт] бывшая артистка Драматического театра г-жа Полевицкая"*, "В театр Корша к Шлуглейту на будущий сезон подписала Е. А. Полевицкая"**.
* ("Рампа и жизнь", 1918, № 11/12, с. 11. )
** ("Театральная газ.", М., 1918, № 13, с. 7.)
Казалось бы, все складывалось так счастливо! Но судьба распорядилась иначе. В третьем своем письме, от 14 июня, Радин чрезвычайно озабочен отсутствием ответа: "Многоуважаемая Елена Александровна, Андрей Павлович Петровский через знакомого послал Вам письмо в Харьков, но оно Вас там не застало. А между тем нам необходимо срочно знать Ваше мнение по поводу роли Марии в пьесе Метерлинка "Мария Магдалина"... Если эта роль Вас удовлетворит, то дирекция поставит пьесу для Вашего первого выхода. Откроем "Дилеммой" Б. Шоу, а второй пьесой будет "Мария Магдалина". Может быть, у вас есть что-нибудь интересующее Вас?.. Готовый к услугам. Н. Радин"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 2313, оп. 1, ед. хр. 83, л. 57.)
Однако в катаклизмах гражданской войны, столь яростно бушевавшей на Украине, потонули творческие замыслы актеров театра Синельникова. Проезд на север страны закрыт фронтом. Полевицкая вместе с Шмитом перебирается в 1918 году в Одессу и вступает в труппу М. П. Ливского. Иван Федорович занял пост заведующего художественной частью. Здесь собралось невероятное для провинции количество актеров, больше шестидесяти. У одних оказались перекрыты пути домой, другие попали сюда по неискоренимой актерской привычке к бродяжничеству, третьи - совсем случайно. Совершенно чужие друг другу, они и играли словно на разных языках. Полевицкая с трудом находила свое место в этом пестром составе. Сам Ливский, некогда известный предприниматель театра оперетты, в драматическом искусстве разбирался мало. Был он далек и от политики. Примечателен, например, такой его разговор с Шмитом:
- Иван Федорович, что у нас идет в четверг?
- В четверг? - заглядывает в афишу Шмит.- "Роза Люксембург".
- Вы меня простите, Иван Федорович. Вы, конечно, очень образованный человек, но в оперетке я больше вас понимаю. У нас есть "Роза из Стамбула", есть "Граф Люксембург", а вот "Розу Люксембург", простите, я не знаю.
Нового, хоть в какой-нибудь степени злободневного репертуара еще не существовало. Поэтому играли старый, кто с чем приехал, в самых невероятных сочетаниях.
Время стояло тревожное. За полтора года в Одессе девятнадцать раз менялась власть, часты были убийства, свирепствовал сыпной тиф, царил голод, процветал черный рынок. Некоторые актеры участвовали в торговых и финансовых операциях самого сомнительного свойства, другие - в их числе Полевицкая - продавали на базаре последнюю одежду или меняли ее на хлеб и молоко, третьи, чтобы прокормиться, сами выходили на лодках в море, ловили рыбу.
Восторженно встретили актеры приход в Одессу в апреле 1919 года Красной Армии. В городе были организованы Театр имени В. И. Ленина, Рабочий театр, Театр Черноморского Красного флота.
Публика в основном состояла из моряков, которые любили театр и сами наводили там чистоту, как на корабле. Актеры старались отблагодарить новых зрителей за их любовь, внимание, принести им радость. Несколько благодарностей получила Полевицкая за благотворительные концерты, за сбор денег для беспризорных детей.
Шмит задумал грандиозное зрелище - на ступенях знаменитой одесской лестницы поставить "Антигону" Софокла, с тем чтобы главным участником спектакля стал хор из трехсот рабочих. Состоялись первые репетиции. Но через четыре месяца город снова заняли белые.
Ритм жизни ломался с невероятной быстротой. Оживление сменялось зловещим затишьем, затишье - напряженной тревогой, после тревоги снова наступала видимость покоя. Нередко у местного населения пытались реквизировать имущество. Однажды в категорию "имущество" попали и театральные костюмы. Заседание труппы театра по этому поводу продолжалось несколько часов. Внезапно к телефону позвали Полевицкую, и грубоватый мужской голос доверительно сообщил ей:
- Говорит с тобой Алешка Свищов. Ты, товарищ Полевицкая, носа не вешай, твоего барахла никто не тронет. Предлагаю всем твоим товарищам снести свои тряпки в театр, а я выставлю сто пятьдесят человек их охранять, и никто не посмеет у вас ничего взять, потому как мы очень любим театр и тебя, товарищ, тоже очень любим.
Полевицкая так и не узнала "классового лица" своего неожиданного благодетеля. Однако, к счастью, реквизиция не коснулась актеров, так как ее начали с рабочих окраин, а тамошнее население побило грабителей камнями.
Актеров в Одессе всегда любили. В это беспокойное время их старались незримо охранять. Как-то Полевицкая, жившая недалеко от центра, возвращалась домой из Рабочего театра, с окраины города. Освещения на улице, конечно, не было, транспорта никакого, путь предстоял длинный. Вдруг она услышала сзади шаги и испугалась, так как женщин убивали из-за шубы, из-за платья, из-за пустякового украшения. Она остановилась, шаги тоже затихли. Ожидая выстрела в спину или удара ножом, она двинулась дальше. Шаги возобновились, но уже как будто другого человека. Через некоторое время шаги опять затихли, а потом послышались снова, но непохожие на предыдущие. Когда Полевицкая была уже не в силах от страха идти дальше, ее окликнули:
- А вы не бойтесь, товарищ. У нас весь ваш путь разделен на части. Мы передаем вас друг другу, чтобы охранять. Так что идите и ничего не бойтесь.
Телохранители и поклонники встречались здесь самые разные. В вечер бенефиса она, например, получила колоссальную, в рост человека, корзину цветов от "короля" одесских жуликов Мишки Япончика. А в другой раз - корзину не меньших размеров от неизвестного ей Джека.
Однажды у Полевицкой из дома таинственным образом исчезла шкатулка со всеми драгоценностями, как настоящими, так и бутафорскими. Назавтра актриса опубликовала в местной газете обращение к вору, в котором просила вернуть шкатулку, ибо в ином случае она не сможет больше играть в театре, так как все эти фальшивые "безделушки" должны украшать ее сценический костюм в большинстве ролей. На следующий день она обнаружила шкатулку со всем содержимым, без единой пропажи, точно на прежнем месте.
Пребывание в Одессе было нестерпимым. Труппа Ливского в ноябре 1919 года переехала в Севастополь, где играла в помещении кинотеатра "Ренессанс". Но обстановка не изменилась. Во время спектаклей пьяные белые офицеры забавлялись тем, что стреляли в люстры. Полевицкая и Шмит в составе случайной труппы отправились на гастроли по другим городам Крыма - в Симферополь, Ялту.
Шел 1920 год. Болгарский импресарио Христов, много наслышанный о спектаклях русских актеров, пригласил Полевицкую и Шмита вместе с частью труппы на гастроли в Болгарию. Репертуар он предлагал им выбрать самим, обещал настоящую творческую обстановку, материальную обеспеченность, полное спокойствие. Все это показалось заманчивым. Гражданская война не прекращалась. В Крыму свирепствовала белогвардейщина. Врангелевцы учиняли массовые аресты и расстрелы. Оставаться здесь становилось опасно. Север страны был отрезан войной. Связь с Синельниковым оборвана. А Болгария- это те же славяне. Там можно без всякого риска, продолжая заниматься любимым делом, переждать войну. Не будет же она длиться вечно. Ну еще два, ну три месяца... И они решили ехать.
20 мая 1920 года на пароходе "Лазарев" Полевицкая и Шмит вместе с небольшой группой актеров отплыли в Болгарию. Тогда Полевицкая еще не знала, на сколько долгих лет растянутся эти гастроли, как она будет тосковать в разлуке со всем тем, что ей было бесконечно дорого, не знала и того, сколько горя ей придется перенести за той чертой, которая именуется границей и за которой кончается Родина.
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'