
Первая и первый...
"Первая и первый частный театр выхлопотала Бренко",- говорил писатель В. А. Гиляровский, большой друг Анны Алексеевны, всегда считавший, что ей принадлежит историческая заслуга отмены "театрального крепостного права".
Осенью тревожного 1905 года, когда отметить двадцатипятилетний юбилей этого вольного театра было невозможно, Гиляровский поместил о нем в "Русском слове" статью, в которой писал: "Это был первый шаг освободительного движения, начавшегося с искусства и дремавшего с той поры четверть века". Он удивлялся тому, что сделала его "женщина, не ужившаяся с... формализмом в то время, когда другие, и великие таланты в том числе... переносили все и не стремились к свободе искусства".
В высокой оценке созданного Бренко театра, в определении той роли, которую он сыграл в формировании русской театральной культуры, все единодушны. А в биографии театра существует путаница. Называются разные даты его создания, различными, иногда противоположными обстоятельствами объясняются причины его закрытия.
Известный под стихийно возникшим названием Пушкинского театра, он сложился задолго до его формального открытия. Собственно Пушкинский театр проработал с 9 сентября 1880-го до 7 февраля 1882 года. Но с 11 января по 27 апреля 1880 года Анна Алексеевна Бренко давала спектакли в пассаже Солодовникова, позже, летом - в различных московских зданиях, и созданная ею труппа была основой будущего театра. В свою очередь, театр Солодовникова, как называли его в Москве, вырос из руководимого Анной Бренко любительского кружка.
Таким образом, история первого частного театра распадается на несколько периодов.
Принято отмечать, что сначала спектакли шли в пассаже Солодовникова на Петровке, потом - в доме Малкиеля на Тверской. Но все-таки было не два сезона одного театра, а два совершенно различных этапа пусть одного и того же явления.
Зародившись 11 января 1880 года, театр появился на свет через восемь месяцев.
Решив создать свою труппу, Бренко начала искать пути обхода театральной монополии и случайно узнала, что общество "Христианская помощь" имеет право давать благотворительные спектакли. У общества было право, но не было труппы, у Анны Алексеевны не было ничего, кроме сильного желания организовать собственный театр, и она предложила обществу свои услуги. Председателю "Христианской помощи", адъютанту московского генерал-губернатора Долгорукова Вишневскому было важно только одно: чтобы проводимые под маркой общества "Вечера с пением и декламацией, но без декораций, грима и костюмов" приносили доход.
Встретились, обсудили условия, составили договор, точно определили сумму, которую с каждого спектакля, независимо от сборов, надо было платить обществу. Поначалу Анна Алексеевна и представить себе не могла, чем обернутся для нее эти кабальные условия. Сняв помещение и наняв мастеров для его ремонта и перестройки, Бренко начала приглашать актеров, определила репертуар и приступила к репетициям. На все нужны были деньги: шились неразрешенные костюмы, готовились запрещенные декорации, актерам и оркестрантам надо было платить, рабочие требовали вперед. Бренко тратила семейные средства, рассчитывая вернуть их, когда начнутся спектакли. Но "Христианская помощь" прислала в театр собственного кассира, который сразу забирал положенную обществу сумму, как выяснилось позже, не забывая при этом и о себе, и остатков, попадавших в руки Анны Алексеевны, едва хватало на самые необходимые театральные расходы. Но новое дело так властно захватило ее и так победно и радостно начиналось, что ни о каких материальных расчетах думать ей попросту не хотелось.
10 января 1880 года "Русские ведомости" сообщили, что переделка театра закончилась и с завтрашнего дня наконец-то начнутся спектакли. А спустя две недели эта же газета писала, что в Москве, где до сих пор существовали лишь не удовлетворяющие зрителей клубные сцены да еще цирк и кафешантаны, появился публичный частный театр, дающий драматические спектакли.
Летом 1879 года, чуть опередив появление театра Солодовникова, возникла в Москве либеральная газета "Русский курьер", ближе всего стоявшая к устойчивым профессорским "Русским ведомостям". В последней писал П. Д. Боборыкин, в первой вел театральный отдел В. И. Немирович-Данченко. В те годы студент Московского университета, едва перешагнувший двадцатилетие, он считал театральную критику своим основным делом, и его статьи в "Русском курьере" и "Будильнике" дают наиболее полное и разностороннее представление о едва возникшем театре Бренко. Немирович-Данченко сразу отнесся к нему с симпатией и сочувствием, противопоставляя его императорским театрам, писал, что "новый театр обещает быть по своему "тону" лучшим частным театром в России. Труппа подобрана если не из всех "сливок" провинции, то, во всяком случае, настоящая труппа, хорошая и полная".
Трудности возникали на каждом шагу. Провинциальные актеры, связанные контрактами и обязательствами, приезжали и уезжали, давали несколько спектаклей, чтобы исчезнуть и через какое-то время вернуться опять. Актеры Малого театра - Ермолова, Федотова, Ленский - охотно, но полулегально игравшие у Бренко, были много заняты у себя, и строить репертуар с расчетом на них не приходилось.
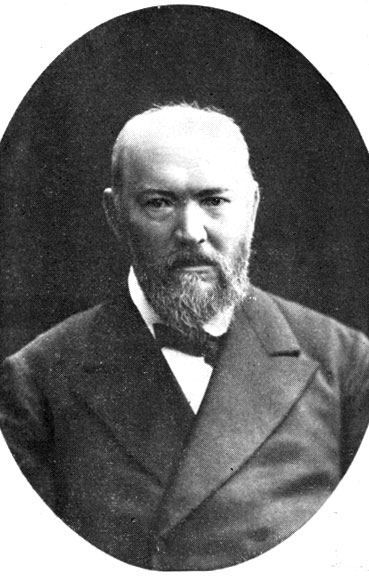
А. Н. Островский
"Монополия тем губит искусство,- писал в 1880 году Островский,- что не разрешает театров, а разрешает спектакли". На первом этапе у Бренко именно это и было - спектакли без театра, и в каждый составленный даже на короткий срок план постановок жизнь неизменно вносила свои обязательные поправки.
В начале января газеты сообщают о приезде знаменитого актера Модеста Писарева, а 31-го - о его прощальном спектакле. В марте он опять играет у Бренко, 8 апреля уезжает в Петербург ("поступать в Александрийский театр", как пишут всезнающие газеты), но опять возвращается и работает в Москве уже до конца сезона.
Во время поста в Москве появляется множество актеров. Зима в провинциальных театрах была трудной, многие приехали искать работу. Бренко вместе с Писаревым продуманно отбирает тех, кто мог бы работать в ее театре. Одни играют у нее, другие - в Артистическом кружке. В начале апреля Немирович-Данченко с гневом говорит о том, что казенная сцена, не имеющая ни актеров, ни актрис на молодые роли, чурается своих провинциальных собратьев и даже не хочет посмотреть, как они играют. "Впрочем,- пишет он,- стоит ли почтенной театральной администрации беспокоиться, когда она летом, благодаря закулисному кумовству, может набрать разных бездарностей, которых потом и приткнуть-то никуда не сумеет".
А в пассаже Солодовникова с 11 января до конца сезона - 27 апреля - играют Андреев-Бурлак, Писарев, Чарский, Рыбаков, Немирова, Пузинский, Стрепетова и многие другие прекрасные актеры и актрисы. Во многом благодаря наличию в труппе таких замечательных мастеров сцены Анне Алексеевне Бренко удалось поставить хорошие пьесы и обеспечить в целом высокий уровень спектаклей.
Не все ладилось во время первого сезона: "Отелло" шел без необходимой четкости, в "Шейлоке" второстепенные актеры не знали ролей, в "Горе от ума" при внезапной замене новый исполнитель роли Чацкого путал текст и сбивался. Всякое бывало. С издержками вынужденной спешки и обстоятельств справиться Бренко еще не могла. И мудрено ли, что газеты в этот период часто писали об успехе не всего спектакля, а только одного-двух актеров, а иногда и противопоставляли блестящее исполнение главной роли общим просчетам постановки. Но в целом спектакли очень нравились московской публике, и 3 апреля 1880 года Немирович-Данченко, сообщая о том, что Артистический кружок в воскресенье из-за отсутствия сборов отменил спектакль, в то время как театр Солодовникова полон, добавлял: "Театр Солодовникова "забил" артистический кружок. Здесь прекрасный репертуар, и если бы он был лучше обставлен, он мог бы подорвать интерес и к Малому театру".
В следующем номере "Русского курьера" Немирович-Данченко опять возвращается к этой мысли: "Видно вообще, что распорядители слишком занялись репертуаром, так сказать, внутренним содержанием спектаклей и мало обращают внимания на их внешнюю сторону". Действительно, "внутреннему содержанию" и репертуару Бренко всегда придавала большое значение и по возможности на уступки не шла. Правда, в первые месяцы иной раз приходилось ставить не то, что хотелось. Еще перед открытием театра "Русские ведомости" сообщали, что, наряду со "Скупым рыцарем", "Дикаркой" и комедиями Фонвизина, в театре 12 февраля пойдут оперетки. Идут "Парижские нищие", позже проскакивает фантастическая "Багдадская", пьеса с "совершенно новыми костюмами и декорациями в восточном вкусе". 1 апреля "Аблакаты" и оперетта "Все мы жаждем любви". Вот, в сущности, и все за четыре месяца. Ничтожно мало по сравнению с русской и западной классикой, с лучшими современными пьесами (в первую очередь - Островского), поставленными в театре. Бренко писала, что и этого бы не ставила, но боялась слишком крутых поворотов. Провинциальные знаменитости хотели покорить Москву своими коронными ролями, и при составлении репертуара это приходилось учитывать. Но ведь и актеров Бренко приглашала не всех, а из их ролей тоже выбирала лишь те, которые совпадали с общим направлением театра.
Для Чарского Бренко поставила "Гамлета" и "Разбойников", для Андреева-Бурлака и Писарева - "Горькую судьбину", "Лес", "Свои люди - сочтемся", "Доходное место". Пригласив в конце сезона, 16 апреля, на несколько спектаклей Немирову-Ральф, дала ей возможность выступить в "Марии Стюарт" и "Эмилии Галотти".
На рубеже 80-х годов проблемы реализма, национального характера и тенденциозности искусства были не эстетическими, а политическими вопросами, и Бренко сразу четко сформулировала цель театра: "Показать людям живую жизнь".
"Жизнь наша покрыта страшным мраком,- писал в одном из писем 25 декабря 1879 года художник Николай Ге,- невежество, безумие, закрывая свет, делают нашу жизнь бессмысленною, случайною, ненужною". А через три месяца отмечал: "...публика, вероятно, вследствие своего возбуждения... во что бы то ни стало требует того, что ее самою очень беспокоит".
Но правительство беспокоило другое - не дать этой возбужденной публике увидеть то, что ее интересует, не позволить разобраться в сути происходящего. Островский писал, что монополия не только гарантирует сборы при самом низком уровне спектаклей, но и помогает "так строить репертуар, чтоб в него, упаси боже, не проникли произведения, могущие расшатать государственный порядок".
Чудовищная по размаху и цинизму реакция пытается скрыть под слоем грима подлинное лицо. Но бьет в набат, не дает забыться, настойчиво ставит острые вопросы русская литература, обличающая на рубеже 70-80-х годов реакцию и угнетение, беспринципность и лицемерие российской действительности.
"Господа Головлевы" (1875-1880), "Анна Каренина" (1875-1877), "Братья Карамазовы" (1879- 1881). Очерки Успенского, поэзия Некрасова, драматургия Островского показывают сложнейшие социальные противоречия переломной эпохи. Интерес к национальной тематике определяет развитие и русской музыкальной культуры. Искусство передвижников откликается на каждое значительное событие, будит людей, поддерживает веру в неистребимую силу народа. Но все эти произведения рождаются в тиши мастерских и кабинетов. Спектакль всегда на семи ветрах. Он создается публично, многими людьми, поэтому более уязвим и беззащитен.
Как соблазнительно было и в новом, еще только набирающем силу театре, где все на виду, где ничего не скроешь и ни от чего потом не откажешься, спрятаться за безопасной и прибыльной ширмой переводных мелодрам, легких водевилей или пикантных пустячков, ни у кого не вызывающих протеста. Путь этот был многократно проторен. Полностью зависимые от властей театры старательно уводили зрителей подальше от насущных проблем и опасных мыслей. В казенных театрах России преобладали водевили. В. И. Немирович-Данченко с возмущением писал, что в театральной жизни "застой и апатия, а репертуар измельчал и сделался чуть не игрушкою".
В сезон 1879/80 года на сцене Малого театра среди целого моря пьес, вроде "Угнетенной невинности" или "Так на свете все превратно", вышедших из-под пера плодовитого и репертуарного драматурга Виктора Крылова, прошли всего две пьесы Островского. То же в Александрийском театре. 6 января 1882 года газета "Сын отечества", оценивая очередную комедию Крылова, писала, что она "ничуть не хуже и не лучше всей той белиберды, которую мы пересмотрели на александрийских бенефисах за этот год".
"В императорских театрах,- писала Бренко,- все пришиблено и придавлено пустым репертуаром". У себя в театре именно репертуару она придавала огромное значение, заботясь о его "литературном лице". Близость театра Бренко к русской литературе заметили сразу. А. Н. Плещеев писал, что в театре были высокие традиции и "особая атмосфера", а его создатели воспринимались как "близкие родственники отечественной литературы".
Что характеризовало этот театр с первых шагов и определяло связь с передовым искусством? Прежде всего - современность, желание сейчас, немедленно откликнуться на чужую боль и, если можно, помочь. Как будто пульсировало в каждом спектакле тревожное ощущение неблагополучия и радостное предчувствие близких перемен. Многим тогда, несмотря на страшный разгул реакции, казалось, что Россия стоит перед революционным переворотом.
"Мое дело было идейным",- писала Бренко. Репертуаром театра подтверждены ее слова о решительном отказе "от мелодрам и разной современной чепухи и всевозможных безыдейных пьес". Идейное дело требовало современных, правдивых, русских произведений. Островский тоже считал, что репертуар народного театра должен быть национальным. А самым национальным, самым глубоким драматургом был он сам, и его пьесы чаще всего шли в театре Бренко. В 1881 году на сценах императорских театров Островский прошел тридцать один раз, на сценах частных - главным образом у Бренко - сто тридцать три раза.
"Свои люди - сочтемся", "Грех да беда...", "Не так живи, как хочется", "Бедность не порок", "Доходное место", "Лес", "Светит, да не греет", "Дикарка" и многие другие пьесы Островского были поставлены на сцене пассажа Солодовникова.
Помимо этого ставили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина, Писемского, Салтыкова-Щедрина. Из зарубежной классики шли трагедии Шекспира, Шиллера, Лессинга, Гуцкова: "Гамлет", "Отелло", "Разбойники", "Коварство и любовь", "Эмилия Галотти", "Уриэль Акоста".
"Репертуар образцовый, по крайней мере обещают вести его образцово..." - писал Немирович-Данченко.
11 января начались спектакли, 16 января М. Писарев сыграл Краснова в драме Островского "Грех да беда на кого не живет". Газеты сразу откликнулись на спектакль. Д. Аверкиев писал в "Голосе" о том, что трактовка Писаревым роли Краснова "чрезвычайно оригинальна", П. Боборыкин отметил его "особое влечение" к этой роли, а В. Немирович-Данченко назвал ее одной из лучших у любимого им актера. В конце января "Русский курьер" писал о том, что 23 и 24 января Писарев играл Петра в "Не так живи, как хочется". Спектаклем Немирович-Данченко остался недоволен. В этом слабом спектакле по-настоящему хорош был только Писарев.
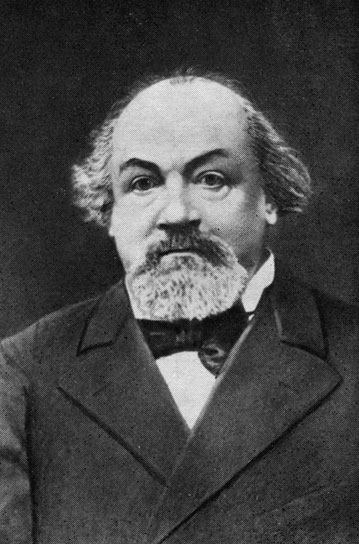
А. Ф. Писемский
Одной из наибольших удач первого сезона стала постановка "Горькой судьбины" Писемского. Драму, написанную накануне отмены крепостного права, можно было представить как чисто семейную историю, что и пытался сделать сам Писемский, называя Лизавету "подлой бабой и шельмой" и уговаривая Писарева играть Анания "позвероподобнее". Но эта же пьеса могла явиться яростным протестом против крепостничества, придавливающего слабых, ломающего кости независимым, дающего неограниченную власть над людьми титулованным ничтожествам.
Именно так прозвучала она в спектакле, поставленном Бренко. Выбрав для постановки "Горькую судьбину", Бренко и Писарев поехали к Писемскому просить на нее разрешения. Он согласился сразу. Приступив к первым репетициям, они заново пересмотрели акт за актом, продумали смысл каждой сцены, каждого образа.
Этот спектакль заставил Немировича-Данченко в 1880 году, через двадцать один год после написания "Горькой судьбины", назвать ее одной из наиболее современных пьес.
Когда в 1869 году Писарев вместе со Стрепетовой прославился в этой драме на всю Россию, он видел в Анании не "звероподобного" мужика, а гордого и прекрасного человека. Теперь время было другим, новым было и направление труппы, где он работал, и под влиянием этого у него изменилась трактовка главного героя, а вслед за ней - и все звучание пьесы.
Его прежний Ананий был надежным и обстоятельным мужиком, привыкшим жить по закону, по раз и навсегда установленному порядку. "Ишь ты, и не зверь он вовсе",- поразился Писемский, впервые увидев в той роли Писарева.
В Москве Писарев играл иначе: его герой распрямился, как будто став даже ростом выше. Еще крепостной по положению, еще не вырвавшийся из привычного уклада и устоявшихся обычаев, Ананий уже не хотел и не мог мириться со своей подневольной жизнью. И не приверженность закону и порядку, а любовь к Лизавете стала основой образа. В первой же сцене зрителей поразило что-то "теплое, мягкое", проявившееся в голосе Анания, во взгляде, которым после долгой разлуки он смотрел на жену. Неожиданный плач ребенка и известие об измене Лизаветы ошеломляли его, и в следующих сценах он метался в отчаянии, пытаясь найти какое-то решение. А когда, отыскав его ("жена моя, и ребенок, значит, мой"), узнавал, что Лизавета опять бегает к барину и "окромя распутства... оглашает и порочит мужа", что негодяй староста властен защищать от него жену, он распрямлялся с такой яростной силой, как будто рывком сразу рвал опутавшие его цепи. Народническое уважение к мужику было главным в трактовке образа Анания.
И как был мелок, ничтожен рядом с ним вялый и сладкоречивый барин, объяснявший, что связь с Лизаветой - "дело одной только любви", и даже предлагавший ему, крепостному, "вытянуть друг друга на барьер" и стреляться. И когда старик бурмистр объяснял, как выгодна для него связь жены с барином и как он обязан "сделать для господина во всем удовольствие", он с негодованием отвергал и эти доводы и попытку уладить дело деньгами: "Я хотя, сударь, простой мужик, однако же чести моей не продавал ни за большие деньги, ни за малые".
Писарев в этой роли, по словам Гиляровского, "огромный, красивый, могучий - был прекрасен"! Не случайно М. Ермолова сама захотела сыграть с ним Лизавету, и этот спектакль, состоявшийся в бенефис Писарева 1 апреля 1880 года и дважды затем повторенный, стал знаменательным событием в театральной жизни Москвы.
Споров вокруг него было много. Боборыкину спектакль не понравился. Среди множества восторженных рецензий его обстоятельная статья выделяется неприятием и Писарева, и Ермоловой, и Федотовой, игравшей одну из баб. Ананий, по мнению критика, должен непременно быть тощим, с впалой грудью, рыжим и желчным мужиком, а Лизавета . той "шельмой", о которой говорил Писемский. Но обе великие актрисы - Стрепетова и Ермолова - с этой трактовкой не согласились, и каждая по-своему создавали образ несчастной женщины, самим укладом жизни лишенной права на счастье.
В Лизавете - Стрепетовой была не только горькая бесправная бабья судьба ("по сиротству да по бедности нашей сговорили да скрутили, словно живую в землю закопали"), но и яростный протест - против нелюбимого, силой взявшего ее мужа, против забитой, на каждом шагу отрекающейся от нее матери, против той жизни, которая не дала ей хорошей доли.
На суд мужиков она выходила из-за перегородки босиком, в стареньком домашнем сарафане; признавая вину, была выше и чище всех, как будто омыло ее этим вдруг прорвавшимся потоком гордой уверенности в законности своей любви и трудного материнства. "Не бывать по-вашему никогда... Это не ваше дело, а мое!" - говорила она мужу и обращалась к мужикам: "Все вы, может, видели, как я и повенчана-то за него была... в свадебных-то санях почесть что связанную везли... так с меня спрашивать тоже много нечего... при всем народе говорю, что барская полюбовница есть..."
И тем страшнее был переход к горю и отчаянный вопль над мертвым ребенком: "Батюшки, совсем уж не дышит, вся головка раскроена". Ее выступление против Анания было порывом забитой, но дошедшей до последнего предела женщины. Смерть ребенка лишала ее сил. Отчаяние, по словам одного из современников, выражалось не только в лице, глазах, голосе, но и "во всей фигуре". Выходя на допрос, она не могла стоять, ноги подгибались, тяжелое, словно лишенное костей тело бессильно повисало на чужих руках и оседало на пол, едва сотский переставал поддерживать ее. Горе переподняло ее, она уже не плакала даже, а, обессилев от долгих слез, всхлипывала, лишь иногда прорывались рыдания или короткий судорожный вопль.
"Ее среда - женщины низшего и среднего классов общества,- писал о Стрепетовой Островский,- ее пафос - простые сильные страсти, ее торжество - проявление в женщине природных инстинктов, которые в цельных непосредственных натурах мгновенно преображают весь организм".
В апреле 1880 года Стрепетовой еще не было в Москве. Но москвичи видели ее в "Горькой судьбине" раньше, помнили, как великолепно она играет, и ждали этого приезда.
Немирович-Данченко писал, что было сомнение, сможет ли Ермолова сыграть эту роль после Стрепетовой, но на спектакле она подчинила себе зрительный зал и к концу третьего действия "сумела возвыситься до потрясающего впечатления". Она была в этой роли мягче Стрепетовой, женственнее и человечнее. Лизавета Стрепетовой была органична, как бы отлита из целого куска. Простая темная баба потрясала стихийным, неуправляемым порывом. Ермолова, уже сыгравшая к этому времени свои лучшие роли зарубежного репертуара, нашла в "Горькой судьбине" другую линию. Поведение ее Лизаветы определялось не только жизнью и стечением обстоятельств. Поставленная в жесткие условия крепостного быта, она сама выбирала дорогу.
У Стрепетовой был фанатизм, у Ермоловой - подвижничество. Первая окружила Лизавету "ореолом мученичества", вторая - подняла ее до уровня осознанной и выстраданной боли.
Стрепетова и Писарев строили свои роли на контрасте силы и слабости, у Писарева и Ермоловой сталкивались две силы, доведенные до преступления и отчаяния бесчеловечными условиями жизни.
Огромной удачей было исполнение Андреевым-Бурлаком роли бурмистра Калистрата.
Ананий вырывался из крепостничества, Калистрат тянул вглубь, в те времена, когда о свободе и не помышляли. "Старым господам вы, видно, не служивали",- говорил он, вспоминая, как сам "взгляду господского немел и трепетал". Он раб по призванию, раб подлый, угодливый, хитрый. Почти пятьдесят лет он служил старому барину, теперь обхаживает молодого, и никто не может, как он, "наустить господина на женщину замужнюю" или порассуждать о том, что мужику нельзя давать поблажку.
Этот "блудливый барский угодник" был мерзок и отвратителен, но в пьесе его простили, а жажда отмщения так и осталась неудовлетворенной, и мысль о том, что такие, как он, всегда в силе и всегда правы, застревала в сознании как заноза, мучила и требовала разрешения.
По словам критика, "пьеса прошла вплоть до конца третьего акта перед возбужденной, горячо настроенной залой". Анания, как писал Гиляровский, начали оценивать как "жертву крепостничества". "В нем видели,- свидетельствовал другой автор, - человека, доведенного самой жизнью с ее ненормальным строем до преступления". В провинции на "Горькой судьбине" у зрителей текли слезы, теперь - сжимались кулаки.
После окончания спектакля поднялся оркестр, вышли на сцену все участники спектакля и вместе с публикой устроили овацию Писареву. "Писарев в этой пьесе был великолепен, это была одна из лучших его многочисленных ролей. ...Впечатление было колоссальное",- писала Бренко. Зал пассажа Солодовникова не мог вместить всех желающих, часто повторять спектакль не удавалось: актеры работали в других театрах.
Триумф "Горькой судьбины" и навел Бренко на мысль о том, что надо создавать не труппу, а постоянный театр. Работу по его организации она начала вести сразу в нескольких направлениях.
|
ПОИСК:
|
>
>
© ISTORIYA-TEATRA.RU, 2001-2020
При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'


При использовании материалов сайта обратная активная гиперссылка обязательна:
http://istoriya-teatra.ru/ 'Театр и его история'